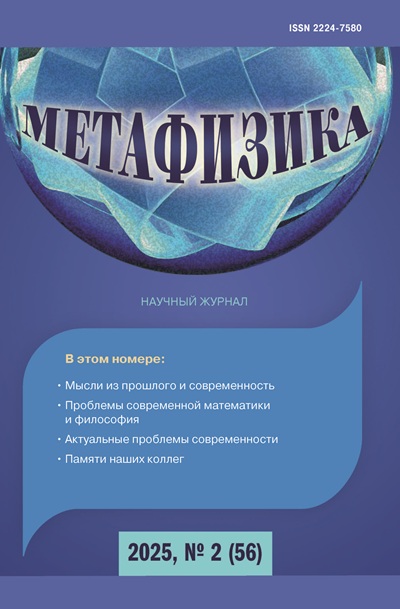LEIBNIZ'S PRINCIPLE OF PRE-ESTABLISHED HARMONY AND SUBSTANTIATION OF THE ADVANCED DEVELOPMENT OF MATHEMATICS PHENOMENON
- Authors: Perminov V.Y.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 1 (2020)
- Pages: 65-73
- Section: Articles
- URL: https://macrosociolingusictics.ru/metaphysics/article/view/26225
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2020-1-65-73
- ID: 26225
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of Leibniz's principle of pre-established harmony, with the help of which he tried to explain the apparent harmony between spirit and body. It is shown that in the 19th and 20th centuries this principle underwent significant refinement and acquired the status of a position important for the philosophy and methodology of science.
Full Text
Человеческое знание имеет горизонтальную структуру, определенную уровнями рефлексии. Ребенок часто производит действие, совершенно не думая ни о его целях, ни о его последствиях. Зрелый человек всегда поднимается до некоторой рефлексии над деятельностью и постоянно углубляет эту рефлексию. Действуя, он думает о целях действия, о его способах, его последствиях и т.п. Он может также думать и о своих мыслях по поводу этого действия, об их обоснованности и согласованности с мыслями других людей. Так он поднимается до высоких уровней рефлексии, где мышление, естественно, слабеет и затухает вследствие предельной абстрактности представлений. Мы можем говорить о предельном уровне рефлексии, до которой доходит мышление отдельного индивида в процессе усложнения его интеллекта. Повышение рефлексии характерно не только для индивидуального мышления, но и для человеческой культуры в целом. Творения, которые можно назвать художественной литературой, появились в глубокой древности, и лишь много позднее появились сочинения, имеющие характер рефлексии, которые мы сейчас называем литературной критикой. В дальнейшем естественно появились и произведения следующего уровня рефлексии, имеющие своей задачей анализ принципов литературной критики. Гносеология как часть философии, в своей сути, не что иное, как высшая рефлексия научного знания. Ее задача состоит в том, чтобы выявить назначение и природу человеческого мышления, его методы и критерии достоверности. Для понимания рефлексивного знания и философского знания в целом важно осознать то обстоятельство, что степень обоснованности наших суждений падает вместе с повышением уровня рефлексии. Обоснование знания на n-м уровне рефлексии всегда требует апелляции к суждениям (n+1)-го уровня. Так как высшая рефлексия не имеет уровня более высшего, то суждения этого уровня по необходимости только интуитивны и декларативны и, как правило, не имеют убедительного рационального обоснования. Абстрактная философия любой эпохи неизбежно содержит в себе элементы мистики: абстрактные положения философии - скорее некоторого рода пророчества, чем суждения, относящиеся к сфере доказательного мышления. Уяснение этого момента важно для оценки философских произведений как прошлого, так и настоящего. Мы должны осознать, что истинность философских положений труднее установить, чем истинность более конкретных научных положений, и что в философии высказывается больше ложных положений, чем в какой-либо другой науке. Но, с другой стороны, верно и то, что именно в философии рождаются глубокие интуиции, которые могут сыграть важнейшую роль в науке в качестве основы для понимания ее ориентиров и методов. Лейбниц, несомненно, был одним из таких философов-пророков, и его принцип предустановленной гармонии - одним из положений, оказавших влияние на современное методологическое мышление. Мы не можем понять логику исторической связи между математикой и физикой без обращения к этому принципу. Принцип предустановленной гармонии Лейбниц формулирует в предельно абстрактной метафизической форме, а именно как принцип отношения между душой и телом. Он соглашается с Декартом в том, что тело не может непосредственно воздействовать на дух и дух не может непосредственно воздействовать на тело, но он не принимает декартовского окказионализма, согласно которому каждый действительный акт такого воздействия опосредован волей бога. По учению Декарта, желание влиять на материю, возникающее в душе человека, некоторым образом доходит до бога и лишь затем реализуется в материи как проявление воли бога. Идея предустановленной гармонии выдвигается Лейбницем для того, чтобы заменить эту декартовскую схему опосредованного взаимодействия духа и материи схемой более ясной и более приемлемой для здравого смысла: вмешательство бога в акт воздействия духа на материю заменяется у Лейбница актом первоначального божественного согласования духа и материи. Лейбниц формулирует свою позицию следующим образом: «Души следуют своим законам, которые состоят в известном развитии восприятий сообразно с их благом и злом, а тела также следуют своим законам, которые состоят в правилах движения, и, однако, эти два рода существ, совершенно различные, встречаются и согласуются друг с другом, как двое часов, может быть совершенно различных по устройству, но поставленных в полное соответствие» [1. С. 372]. Эта идея Лейбница умозрительна и мистична. Душа и тело здесь в действительности совсем не взаимодействуют, они лишь согласуются друг с другом в своих движениях, но согласуются в такой степени, что мы воспринимаем эту согласованность как взаимодействие. Эта идеальная согласованность духа и тела установлена, по Лейбницу, богом при сотворении монад как основы всего существующего. Р. Бейль возражал Лейбницу в том плане, что бог не мог вложить в неживые тела столь совершенный план действия. Он сравнивал гипотезу Лейбница с предположением о корабле, который, не будучи никем управляем, сам собой направляется в нужную гавань. Отвечая Бейлю, Лейбниц ссылается на аристотелевское учение об энтелехии: «...Везде необходимы энтелехии, и допускать таковые только в человеческих телах и нигде более - значит умалять Творца природы, который сколь возможно преумножает свои малые миры, или, что то же, свои неделимые деятельные зерцала. Просто невозможно, чтобы энтелехий не было повсюду» [1. С. 329]. Интересный момент состоит здесь в том, что эта метафизическая и умозрительная идея Лейбница была востребована будущей философией и методологией науки. В дальнейшем развитии философии принцип Лейбница получает конкретизацию: он становится принципом развития знания. Это мы видим в философских размышлениях Г. Кантора, Ф. Клейна и Д. Гильберта о природе математического знания: он понимается здесь как принцип, освещающий связь между математикой и опытным знанием. Другая - современная конкретизация этого принципа вырисовывается в связи с учением выдающегося физиолога XX века Н.А. Бернштейна, который намечает обоснование этого принципа через разделение вынужденных и произвольных движений в приспособительной деятельности живых существ. Направленность на будущее, которую Лейбниц хотел видеть в активности каждой монады, переносится здесь на развитие живых систем, а также и на развитие научных теорий как определенного рода искусственных приспособляющихся систем. Мы рассмотрим эту идею применительно к развитию математического знания. Рационалистическая философия, начиная с Пифагора и Платона, понимает математику как науку внеопытную в своем происхождении и не зависящую от опыта в своем развитии. Но если это так, то возникает вопрос, как математика, будучи наукой, независимой от опыта, может применяться к наукам, основанным на опыте. Этот вопрос приобрел остроту в восемнадцатом столетии, когда сама практика науки со всей ясностью показала, что математика важна для прояснения и уточнения физических понятий и что использование математики является необходимым условием построения физики как дедуктивной теории, способной к предсказанию наблюдаемых фактов. Известный взгляд на применение математики к физике был выдвинут Кантом, и он основывался на идее органической связи априорного и апостериорного знания. Кант считал математику априорным знанием, независимым от опыта и в своем происхождении, и в развитии. Но он полагал при этом, что условия применения математики к опытному знанию обусловлены единством интуитивного основания математики и оснований опытного знания. В основе математики, по Канту, лежат интуиции пространства и времени, но те же самые интуиции лежат и в основании опытного знания: пространство и время как формы чувственности определяют синтез каждого суждения, основанного на опыте. Но это значит, что опытная наука также базируется на математических интуициях, которые и обуславливают неизбежную связь ее понятий с понятиями чистой математики. Кантовское воззрение на связь математики и опытного знания важно в общем гносеологическом плане, но ясно также, что оно не дает прямого объяснения феномена применимости в физике математических теорий, созданных внутри математики, без какой-либо ориентации на запросы физики. Принцип предустановленной гармонии, Лейбница несмотря на свою умозрительность, ближе подходит к решению этой проблемы, ибо его можно понять как некоторое скрытое правило, регулирующее отношение чистого разума и опыта. Хотя математика и физика не связаны друг с другом в своем происхождении и своем развитии, они соединены друг с другом некоторой высшей связью, координирующей и соединяющей их развитие. В становлении своих понятий математика и физика устремлены друг к другу: понятия математики совершенствуются для слияния с понятиями физики и наоборот. С этой точки зрения, применение математики к физике не случайно: математическая теория обречена на использование в физике вследствие того, что в ее развитии уже заложены потенции для ее соединения в будущем с миром физических понятий. Эта точка зрения, конечно, мистична, она более мистична, чем даже априористская установка Канта, но она декларирует наличие именно той связи, которую наш здравый смысл заставляет нас подозревать в историческом отношении между математикой и физикой. Идея кантовского априоризма и принцип предустановленной гармонии Лейбница перешли в философию математики девятнадцатого и двадцатого столетий. Наиболее интересными представляются в этом плане воззрения Г. Кантора, изложенные им в «Основах общего учения о многообразиях». Кантор выдвигает здесь свой знаменитый тезис: «Сущность математики в ее свободе». Но каким образом математика, совершенно свободная от внешнего опыта и от транзиентной истины в конструировании своих понятий, не удаляется от опытной науки, но имеет постоянную тенденцию к соединению с ней? Ответ Кантора состоит в том, что сама свобода, присущая математическим понятиям, и является главной причиной такого неизбежного соединения двух типов понятий. Он убежден, что если бы некая внешняя сила заставила математиков думать только о прикладных проблемах, если бы внутренняя свобода математики была уничтожена или ограничена, то развитию самой математики и физики был бы нанесен непоправимый ущерб. «Если бы Гаусс, Коши, Абель, Якоби, Дирихле, Вейерштрасс, Эрмит и Риман были обязаны всегда подвергать свои новые идеи метафизическому контролю, то мы бы, право, не могли наслаждаться грандиозной системой современной теории функций, которая, хотя и была задумана совершенно свободно, без всяких посторонних целей, уже и теперь в применениях к механике, астрономии и математической физике обнаруживает, как и следовало ожидать, свое транзиентное значение. Мы не видели бы перед собой великолепного расцвета теории дифференциальных уравнений у Фукса, Пуанкаре и многих других, если бы эти выдающиеся ученые были стеснены и запутаны этими чужеродными влияниями» [2. С. 80]. Под чужеродными влияниями Кантор имеет в виду влияние физических соображений на определение математических понятий. Нетрудно заметить, что в основе рассуждений Кантора лежит идея предустановленной гармонии. Свобода математики от транзиентной истины, то есть ее свобода от представлений опыта, в принципе могла бы привести и к полному уходу системы ее понятий от опыта, к культивированию внутри математики искусственных понятий и теорий, никак не связанных с опытом и с понятиями физики, описывающими опыт. Но если внутренняя свобода математики, в чем убежден Кантор, позволяет нам реализовать другую тенденцию, то это означает, что именно свобода является необходимым условием и способом реализации предустановленной гармонии. Именно в свободе человеческого мышления содержится, по Кантору, та скрытая сила, соединяющая математическое и физическое знание в их развитии. Ясно, что эти суждения Кантора скорее некоторого рода пророчества, чем суждения, относящиеся к сфере доказательного мышления. Тем не менее Кантор осуществляет важнейшее продвижение в понимании принципа предустановленной гармонии Лейбница: он конкретизирует его, применяя к отношению между математикой и физикой, и связывает реализацию этого принципа с понятием человеческой свободы: он выводит органическую согласованность математики и физики из понятия математики как науки, допускающей свободное, не обусловленное внешним миром, конструирование своих понятий. К принципу предустановленной гармонии обращается также Д. Гильберт в своих эссе «О бесконечном» и «Исследование природы и логика». Рассуждая о выдающихся достижениях точных наук, он пишет: «Но еще большее впечатление производит явление, которое, заимствуя терминологию Лейбница, мы называем предустановленной гармонией. Она является прямым воплощением и реализацией математических идей. Древнейшими ее примерами являются конические сечения, которые были изучены намного раньше, чем мы успели составить себе представление о том, что планеты и даже электроны движутся по эллиптическим орбитам. ...Теорию уравнений с бесконечным числом переменных я развивал исходя из чисто математической заинтересованности и даже применял при этом терминологию спектрального анализа, не имея ни малейшего представления о том, что однажды в дальнейшем она будет реализовываться в реальных физических спектрах» [3. С. 460]. В поисках абсолютного основания математики Гильберт опирается также на кантовское учение об априорности элементарной математики. Для обоснования непротиворечивости теории множеств необходимо было построить некоторую особую теорию (метатеорию), которая могла бы быть исходной базой обоснования и которая могла бы быть принята в качестве непротиворечивой, исходя только из природы своих понятий. Решение Гильберта состояло в том, чтобы сформулировать принципы метатеории исключительно в терминах арифметики и логики. В этом случае ее можно было бы считать абсолютно непротиворечивой вследствие априорного статуса этих двух элементарных теорий. Он писал: «Я допускаю, что уже для построения теоретических каркасов различных теорий априорные представления необходимы и что именно они всегда лежат в основе осуществления нашего знания. Я полагаю, что и математическое знание в конечном счете тоже основывается на некоторой разновидности такого созерцательного понимания и что даже для построения арифметики нам необходима определенная априорная установка» [3. С. 463]. Рассмотрение философских воззрений на проблему математизации знания показывает, что эти воззрения еще и сегодня далеки от полной ясности и в значительной мере основываются на довольно неопределенных допущениях. Общая идея предустановленной гармонии по-прежнему имеет гипотетический и мистический характер в том смысле, что она предполагает некоторую скрытую силу, которая стягивает два разнородных типа знания - физическое и математическое - в единое целое в их развитии и взаимодействии. Основу для дальнейшего уточнения этой идеи мы находим в работах нашего выдающегося физиолога Н.А. Бернштейна. Учение Н.А. Бернштейна - это учение о направленности и о функциональной ориентации действий живого существа. В основе его теории лежит разделение вынужденных и свободных движений. Живое существо всегда ограничено внешними условиями, и эти условия принуждают его выполнить определенные движения как необходимые в данный момент. Это движения, однозначно определенные условиями, или вынужденные движения. Но вместе с тем животное совершает много движений, мало продиктованных или вообще не продиктованных этими условиями. Основная идея Бернштейна состоит в том, что действия животного, не детерминированные настоящим, детерминированы будущим и направлены на предвосхищение наиболее вероятных условий будущего. Здесь он вводит понятие «модели потребного будущего». В актах своего действия живое существо вырабатывает общие представления о будущем, некоторое чувство будущего, с которым должна быть согласованной наша актуальная деятельность. Действуя в настоящем и отвечая на запросы настоящего, живое существо ориентировано не только на настоящее, но и на будущее: оно действует таким образом, чтобы предвосхитить запросы, диктуемые моделью потребного будущего. Предварение будущего, согласно Бернштейну, не всегда осознаваемая, но совершенно необходимая часть нашего поведения и нашего мышления. Там, где деятельность жестко не детерминирована настоящим, она определяется моделью потребного будущего и направлена на предварение будущего. От физиологии мы можем перейти к философии. Мы должны выйти за пределы строго физиологического анализа Бернштейна и перейти от рассмотрения активности на уровне отдельного индивида к рассмотрению предваряющей деятельности на уровне рода. Здесь мы можем говорить о социальных инстинктах, определяющих свободный выбор в общезначимых областях деятельности. Мы можем говорить здесь о наличии неявных, но достаточно влиятельных критериев отбора, не принадлежащих никому индивидуально и, тем не менее, определяющих реальный отбор в сфере искусства, научных гипотез, идеологий и мировоззренческих установок. Наше общее заключение будет состоять в том, что выбор в этих сферах никогда не может быть оправдан рационально, ибо в своей глубине он определен не только рациональными аргументами, но также и социальным инстинктом, не поддающимся полной рационализации. Анализ предваряющей деятельности как социального феномена позволяет взглянуть на феномен опережающего развития математики. Модель потребного будущего сама по себе, конечно, не определяет структуру математических теорий. Математическая теория объективна в том смысле, что мы не изобретаем ее теоремы, а скорее открываем их. Мы можем принять как некоторую безусловную истину, что модель потребного будущего не оказывает влияния на внутреннюю, собственно логическую, организацию математического знания. Но эта модель в форме соответствующего ей социального инстинкта определяет то, какие понятия и теории мы выдвигаем на первый план и рассматриваем как наиболее важные для разработки. Только в арифметике, говорил А. Пуанкаре, можно указать сотни интересных проблем, но если мы посмотрим на работу современных математиков, то увидим, что их интересы сосредоточены вокруг полусотни проблем, выбранных по не вполне ясным основаниям. Теория Бернштейна позволяет нам понять эти основания, уяснить то обстоятельство, что в основе этого выбора лежит модель потребного будущего и соответствующий ей социальный инстинкт. Мы не знаем признаков функциональной перспективности математических теорий: в своей основе они подсознательны, но они есть и мы действуем в соответствии с ними. Математические теории и теоретические системы в целом в своем историческом развитии подобны живым организмам и являются приспособляющимися системами в том смысле, что их внутреннее развитие определено не только их логической структурой, но и нацеленностью на будущее, которая вносится в них сознательным и подсознательным интересом математиков. Физиологические идеи Бернштейна при их родовой, социальной и общефилософской интерпретации дают нам возможность понять и в определенном смысле обосновать феномены предварения будущего, которое мы видим в научном познании. Идея Бернштейна перекликается здесь с идеей Кантора. Кантор выводил математическое предвосхищение из свободы определения математических понятий. Это объяснение не доведено до конца, ибо не ясно, почему свобода построения математических понятий должна приближать эти понятия к физике, а не уводить их от нее. Мы видим, что Бернштейн объясняет возможность предвосхищающей деятельности также из понятия свободы, из произвольных движений живого существа, но ясно, что это объяснение более содержательно. Та скрытая сила, которая у Кантора возникает из свободы и непонятным образом сближает математические понятия с физическими, в теории Бернштейна объясняется моделью потребного будущего, задающей ориентацию на будущее всей совокупности произвольных движений. По отношению к математике мы можем истолковать это следующим образом: хотя математическая теория строится по объективным законам и в своей внутренней структуре независима от каких-либо актуальных или перспективных запросов, развитие математики как приспособляющейся системы выдвигает на первый план именно те понятия и те теории, которые наиболее перспективны, то есть обладают признаками приложимости и наибольшим соответствием с интересами будущей практики. Анализ лейбницевского принципа предустановленной гармонии позволяет нам увидеть логику превращения абстрактных философских принципов в принципы более конкретные, методологически полезные, применимые к объяснению явлений в истории науки. Этот анализ позволяет также увидеть роль самой философии и роль выдающихся философов в развитии научного знания. При всех недостатках философии как теоретической системы, на которые обычно указывают представители конкретных наук, мы должны признать, что она как система рефлексивного знания выполняет особую роль в развитии науки, которую нельзя передать никакой другой области знания. Великие философы, развивая рефлексивные понятия высокого уровня, могут чувствовать и декларировать перспективные истины, которые, проясняясь и уточняясь, входят в сферу науки и научной методологии в качестве эффективных и работающих принципов. Идея предустановленной гармонии - одна из таких философских истин, которая, появившись как идея теологическая и мистическая, приобретает сегодня контуры реального и в достаточной степени обоснованного методологического подхода.×
References
- Лейбниц Г.В. Сочинения. Т. 1. М., 1982.
- Кантор Г. Теория множеств. М.: Наука, 1985.
- Гильберт Д. Избранные труды. Т. 1. М., 1998.
Supplementary files