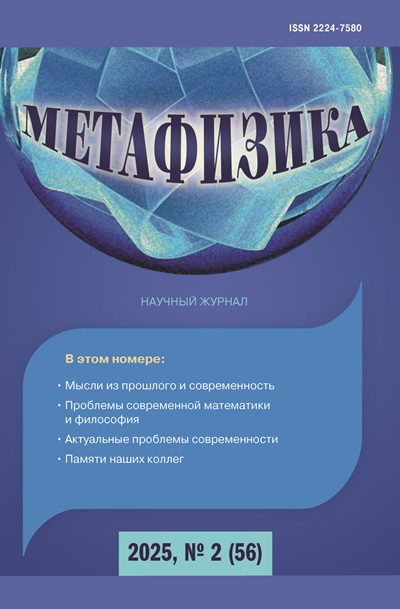ПРОЛАГАЯ ПУТИ В «ПОЛЕ ИСТИНЫ»: GEDANKENEXPERIMENT, ПРИНЦИП МАХА И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ВАРИАЦИЙ
- Авторы: Тютюнников А.А.1,2, Терещенко Д.А.3, Панов В.Ф.4
-
Учреждения:
- Частное образовательное учреждение «Другая школа»
- Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ «Мастерград»
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
- Пермский государственный национальный исследовательский университет
- Выпуск: № 4 (2022)
- Страницы: 63-108
- Раздел: ОСНОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
- URL: https://macrosociolingusictics.ru/metaphysics/article/view/33843
- DOI: https://doi.org/10.22363/2224-7580-2022-4-63-108
- ID: 33843
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья вносит вклад в разработку априорной методологии, адекватной законным притязаниям фундаментальной физики как математической философии природы. Гуссерлевский феноменологический метод вариаций - важнейшая часть этой методологии - рассматривается как средство приведения к ясности и достижения аподиктической очевидности, в высшей степени актуальное в нынешних условиях эрозии эмпирического критерия истинности, когда измышление гипотез для нужд дедуктивной теоретизации стало нормой так называемых фундаментальных исследований. В качестве примера для экспресс-апробации метода берется проблематический принцип, нуждающийся в прояснении: многовариантно формулируемый со времен А. Эйнштейна «принцип Маха». Результатом проясняющей рефлексии одного из переходов между версиями принципа является вывод о том, что концептуальное развитие общей теории относительности на методически проясненных основаниях, одним из которых был бы корректно сформулированный принцип Маха, должно исходить из согласного с этим принципом реляционного понимания пространства-времени. Принцип Маха, поскольку он определяет структуру самих уравнений теории, решения которых мыслятся в модусе возможного, нисколько не затрагивается в своем истинностном значении фактом существования вакуумных решений этих уравнений. В заключение статьи исследуется вопрос о влиянии маховской теории мысленного эксперимента на генезис феноменологического метода вариаций.
Полный текст
1. Законные притязания фундаментальной науки о природе и необходимость адекватного им метода Примета сегодняшнего времени как порубежной эпохи после четырех столетий непрерывного научного прогресса, определявшегося, прежде всего, развитием фундаментального экспериментально-математического естествознания, - осознание научным сообществом новой ситуации, в которой оказалась фундаментальная наука. Физика, игравшая в эти четыре столетия роль теоретической и экспериментальной философии природы, пережила в XX столетии свой «золотой век». Кризис, поразивший ее после построения Стандартной модели в квантовой теории поля, о котором уже много сказано и написано, - кризис, «неприлично» затянувшийся, - можно, как мы полагаем, назвать принципиальным. Нынешние «неприятности с физикой» (Л. Смолин, П. Войт, Б. Шроер, Вл.П. Визгин), в отличие от прежних, каких было немало в ее истории, обусловлены неадекватностью ее теоретико-экспериментального метода, сформулированного, по существу, в первой трети XVII столетия, в эпоху Ф. Бэкона и Г. Галилея, ее интересам и притязаниям как именно «фундаментальной физики». Не будет уже большой смелостью сказать, что нынешний кризис в физике, в отличие от прежних, захватывает самые устои ее - ее последние методологические основания. Последние десятилетия XIX - первая треть XX века - время интенсивных поисков нового научного метода, значение которого для современности было бы таким же, каким было для минувших четырех веков значение двуединого метода Ф. Бэкона и Р. Декарта, воплотившегося в современном экспериментальном и теоретическом (математическом) естествознании. Сегодня на переднем крае науки - там, где эксперимент уже не поспевает за теорией, устремившейся в «занебесную область» (по выражению Платона), - новый научный метод необходим как никогда во все эти четыре столетия. Неокантианцы Марбургской школы полагали, что принципы такого метода можно найти в критической философии Канта. Они обозначали его как «трансцендентальный метод». С этим методологическим проектом марбуржцев, значение которого со временем только возрастает, конкурирует по существу и за право называться «трансцендентальным» феноменологический метод Э. Гуссерля, мыслившийся им, с одной стороны, как окончательное воплощение намерений английского эмпиризма [1. S. 382], с другой - как «исполнение (Erfüllung) кантовских интенций» [2. S. 478]. И марбуржцы, и Гуссерль «углубляют Канта»: первые - Платоном, «durch Plato», как выразился П. Наторп; последний - еще и Аристотелем. Сама возможность такого «углубления Канта» означает, если вообще об этом нужно говорить, что его критическая философия возникла не на пустом месте. В ней имплицитно претворено многое из того, что так или иначе уже было тематизировано философской традицией: традиция распознается в ней, как в негативе - позитив, как в субъекте - объект. Трансцендентальный метод и есть та инвариантная структура, которая сказывается в разнообразных системосозидающих усилиях философской мысли на протяжении всей истории философии и благодаря которой, говоря словами Гегеля, история философии есть единый процесс, а не галерея разрозненных мнений. Мы держимся того взгляда, что наиболее непосредственно и наиболее цельно этот трансцендентальный метод представлен в традиции, ведущей от античной ноологии к наукоучению Фихте и далее - к современным формам платонизма (одной из которых является сегодня так называемый «онтический вариант» структурного реализма, поддерживаемый такими видными философами науки, как Дж. Ледимен, С. Френч, Т. Цао). Мы полагаем также, что и в наличном физико-математическом знании, на семантическом уровне его математического формализма, обнаруживаются черты этого метода. Хотя он представлен здесь фрагментарно (поскольку наличное физико-математическое знание - в неэмпирическом своем компоненте - есть продукт мышления, еще не достигавшего в рефлексии сознания своего принципа), он, однако, уже в своих фрагментах эксплицирован математическим дискурсом с той степенью детализации, какая невозможна в философии и какая необходима для описания природы in concreto посредством порождаемых им физических теорий. Трансцендентальный метод, как мы полагаем, удерживая дедуктивное a priori в качестве нормы теоретических исследований в области фундаментальной физики, должен заместить индуктивное a posteriori нынешней физической методологии парадигмальным по отношению к нему a posteriori феноменологическим. Соответственно, эмпирический критерий «истинности» должен быть заменен гуссерлевским «приведением к ясности» (Klärung). Мы надеемся, что будущее вознаградит философское сообщество за труд осмысления неокантианского трансцендентального и гуссерлевского феноменологического методов тем, что покажет жизнеспособность их симбиоза в научной практике. То, что сегодня мы можем сделать «для завтра», - наималейшая толика этого труда. Значение любой методологии равно нулю, если она не находит себя в применении. В мире возможностей своего применения любая методология есть методология непрерывного действия. Поэтому даже мало-мальское методическое усилие, в котором задействованы далеко не все, а лишь какие-то элементы метода, дает нам почувствовать, как будет он всей своей мощью преодолевать более значительные трудности на своем пути. Если теперь нам и случится снискать ясность в каком-то пункте какой-то проблемы, предстоящей нам лишь в качестве примера для экспресс-апробации каких-то элементов метода, то степень этой ясности мы скорее соотнесем с той, какой способно было достичь понимание в холодном ночном блеске бэконовских светлячков, нежели с предельной, не знающей теней ясностью света трансцендентальной субъективности. Таким примером будет для нас здесь некий проблематический принцип, устоявшееся название которого «принцип Маха» вовсе еще не означает устоявшегося понимания того, в чем же собственно этот принцип заключается[2]. Под этим названием мы видим в смутных очертаниях нечто такое, что еще нуждается в прояснении. На пути к ясности в вопросе о том, что́ же все-таки этот «принцип Маха», даже на самом малом отрезке этого пути, феноменологический метод, рассматриваемый нами в единстве органона с трансцендентальным, в котором дедуктивная теоретизация отнюдь не исключена, но есть cor ipsum его, мог бы, мы думаем, апробировать какие-то свои элементы. Concordia res parvae crescunt. 2. Развитие представлений о принципе Маха и реляционная парадигма Под принципом Маха наиболее часто подразумевают, абстрагируясь от многочисленных формулировок его, обоснование сил инерции как эффектов взаимодействия тел со всей окружающей их материей мира. Однако в работах ряда авторов было показано, что глобальными (интегральными) характеристиками окружающего мира может быть обусловлено не только такое локальное свойство материи, как инертность, но могут быть обусловлены ими и другие, по-видимому не сводимые к инертности, локальные свойства объектов - как классических, так и квантовых. Поэтому Ю.С. Владимировым было дано названному принципу более общее определение: «…принцип Маха следует понимать в более широком смысле, как идею обусловленности локальных свойств материальных образований закономерностями и распределением всей материи мира» [4; 5]. Если иметь в виду эту идею, то с полным правом можно говорить об истории принципа Маха как истории этой идеи. Для феноменологии с ее вниманием к единичному как инстанции общего τὰ γενόμενα (фактическое) исторической действительности не менее важно, чем τὰ οἷα ἂν γένοιτο (квазифактическое) в воображаемом мире возможного, ибо, как говорит Гуссерль, «действительности должны рассматриваться как возможности среди других возможностей» [6. S. 423]. История для феноменологии, как и вообще всякая действительность, есть кладезь примеров, выступающих в т ой же роли, что и образцовые казусы в римском частном праве: общее здесь индуцируется единичным, служащим своеобразной «базой индукции». Если теперь оглянуть историю принципа Маха не поверхностным взглядом, то можно усмотреть в ней периоды, или этапы. Мы предлагаем выделить следующие. В первый период идея детерминированности свойств объектов окружающим миром не получила еще количественного выражения. К этому, самому длительному, периоду нашей истории мы отнесем качественные соображения на этот счет Г. Лейбница, Дж. Беркли, Р. Бошковича, самого Э. Маха и некоторых других мыслителей [7]. Второй этап развития обсуждаемой здесь идеи, на котором она впервые получает математическую формулировку, мы связываем с именем А. Эйнштейна. Как известно, интуиции Маха сыграли важную, если не сказать определяющую роль в генезисе эйнштейновской общей теории относительности. Само выражение «принцип Маха» было пущено в научный оборот Эйнштейном. Согласно Эйнштейну, его теория основана на трех постулатах, «которые, однако, отнюдь не независимы друг от друга»[3]: a) принципе относительности, b) принципе эквивалентности, c) принципе Маха. Второй из них позволяет обобщить ранее сформулированную специальную теорию относительности таким образом, чтобы «симметричный „фундаментальный тензор“», появляющийся в простейшем диагональном виде уже здесь, определял «метрические свойства пространства, движение тел по инерции в нем, а также и (sowie) действие гравитации» [9. С. 613]. Союз sowie в тексте оригинала [8] мы перевели бы «равно как и», поскольку принцип эквивалентности утверждает как раз это тождество инерции и гравитации. «Состояние пространства» (Raumzustand), описываемое фундаментальным тензором, Эйнштейн обозначал как «G-поле». В терминах этого поля принцип Маха он формулировал так: «G-поле полностью (курсив Эйнштейна. - А. Т. и Д. Т.) определено массами тел». Причиной, почему этот принцип был назван им «Machsches Prinzip», Эйнштейн указывал ту, что он означает обобщение требования Маха объяснять феномен инерции взаимодействием тел [8. S. 241]. Третий постулат теоретической системы Эйнштейна не равноценен двум другим. Эти-то суть conditiones sine quibus non теории, причем, как отмечает Эйнштейн, принцип эквивалентности «является исходным пунктом всей теории и прежде всего приводит к установлению принципа [относительности] a)» [9. С. 614][4]. С третьим же постулатом дело обстоит сложнее. Ему, по видимости, не удовлетворяет «ортодоксальный» вариант теории без λ-члена, названного впоследствии космологическим, поскольку этот вариант допускает, вопреки принципу Маха, существование G-поля даже в отсутствие материи (так называемые «вакуумные решения» уравнений Эйнштейна). Убедительность маховского мысленного эксперимента, однако, такова, что даже после разработки ортодоксального варианта общей теории относительности Эйнштейн долгое время (lange [10. P. 28]) не считал возможным отказаться от принципа, в основе которого лежит этот эксперимент: «…Необходимость придерживаться этого [принципа] отнюдь не разделяется всеми товарищами по цеху, но сам я считаю, что он должен безусловно удовлетворяться»[5]. Это могло означать только одно: чтобы удовлетворить принципу Маха и тем самым оправдать свое название, ортодоксальный вариант должен быть модифицирован. Существует способ, как сделать это без потери уравнениями свойства ковариантности и вместе с тем исключить несингулярные вакуумные решения: «…дополнить уравнения добавочными членами, имеющими характер λ-членов» [9. С. 615]. Правда, достается это сомнительной ценой - наперекор опыту и логике: «Однако нельзя умолчать о том, что для такого выполнения постулата Маха приходится ввести в уравнения поля член, который не основан на каких-либо опытных данных и ни в коей мере не обусловлен логически остальными членами этих уравнений. По этой причине указанное решение „космологической проблемы“ пока нельзя считать вполне удовлетворительным» [11. С. 127]. В итоге Эйнштейн все-таки отказался от идей Маха. Этот отказ был обусловлен, во-первых, видимым расхождением теории, содержащей космологическую постоянную λ, с данными наблюдений, а во-вторых, осознанием того, что созданная им общая теория относительности фактически означала возникновение так называемой геометрической парадигмы [12] вместо парадигмы, основанной на трех физических категориях: категории пространства-времени, категории частиц и, наконец, категории полей, описывающих взаимодействия частиц на фоне пространства-времени. Эйнштейновская геометрическая парадигма опиралась на две физические категории: искривленное пространство-время и материальные тела. Идеи же Маха требовали других оснований теории. Общая теория относительности была сформулирована в духе традиционной теории поля в рамках концепции близкодействия, тогда как Мах был сторонником концепции дальнодействия: «По мнению Маха, - писал Эйнштейн в автобиографических заметках, - в действительно рациональной теории инертность должна, подобно другим ньютоновским силам, происходить от взаимодействия масс. Это мнение я долгое время (lange) считал в принципе правильным. Оно неявным образом предполагает, однако, что теория, на которой все основано, должна принадлежать тому же общему типу [теорий действия на расстоянии. - А. Т. и Д. Т.], как и Ньютонова механика: основными понятиями в ней должны служить массы и взаимодействия между ними. Между тем нетрудно видеть, что такая попытка решения не вяжется с духом теории поля» [13. С. 268-269]. К третьему этапу развития представлений о принципе Маха мы относим создание теории прямого межчастичного электромагнитного взаимодействия в работах А. Фоккера, Я.И. Френкеля, Р. Фейнмана, Дж. Уилера. Во избежание недоразумений заметим, что сами эти авторы свои попытки отойти, в той или иной мере, от теории поля с принципом Маха не связывали, но не возбраняется сделать это нам, со своей точки зрения на их попытки, поскольку мы допускаем более широкую трактовку принципа - сообразно феноменологическим модификациям главного маховского мысленного эксперимента, а также сообразно тому, что вскоре другими теоретиками, как мы увидим, эти попытки непосредственно были увязаны с принципом Маха в контексте космологии. В теории прямого межчастичного взаимодействия возникает проблема опережающих взаимодействий, нарушающих принцип причинности «propter hoc est post hoc». Фейнман и Уилер решили эту проблему, сочетая действие на расстоянии с теорией поля «в качестве эквивалентных и взаимодополнительных инструментов для описания природы» [14. P. 181]. Опережающие взаимодействия им удалось устранить, связывая симметрично, вслед за Х. Тетроде, акты электромагнитного излучения с актами поглощения. В предложенном ими механизме компенсации, или подавления, нарушающих причинность вкладов в излучение заряда-источника опережающая часть поля, создаваемого поглотителем, каковы бы ни были свойства последнего, полностью определяется движением источника и отнимает у него ту энергию, «которую акт излучения сообщает окружающим частицам» [Ibid.], то есть этому же самому поглотителю. Для расширенной трактовки принципа Маха важно то, что данное объяснение временно́й асимметрии причинности, как и «локальных» потерь энергии при тормозном излучении выделенного электрического заряда, требует учета вкладов в суперпозицию запаздывающих и опережающих полей вблизи него от всей совокупности окружающих его зарядов как «глобально» распределенной среды, роль которой аналогична роли термостата в статистической механике. Без полной потери информации в понятии «среды» о входящих в ее состав отдельных зарядах не удалось бы избавиться полностью от проявлений опережения и избежать конфликта с привычными представлениями о причинности: «Во Вселенной, состоящей из ограниченного числа заряженных частиц, опережающие эффекты имеют место в явном виде», - пишут Уилер и Фейнман [15. P. 427]. Следующий, четвертый этап истории принципа Маха, как видим ее мы, ознаменован работами Ф. Хойла и Дж. Нарликара [3; 16-20]. Они развивают на его основе конформно-инвариантную (инвариантную относительно вейлевского изменения масштаба метрики) теорию гравитации. Сам принцип, как они его понимают, связывает результат измерения массы тела с фоном далеких «реперных» звезд таким образом, чтобы в отсутствие фона, когда понятие ускорения тела теряет свой относительный смысл - другого же нет! - и становится полностью неопределенным, измеренное значение массы тела равнялось нулю. Таким образом, переход к конформно инвариантной теории гравитации мотивирован, с одной стороны, принципом Маха, в полном согласии с которым масса тела (элементарной частицы, например) не является здесь постоянной величиной, в отличие от неинвариантной в том же смысле эйнштейновской общей теории относительности, где масса тела, движущегося по геодезической, есть постоянный параметр. С другой стороны, максвелловская теория электромагнетизма конформно инвариантна, и стремление этих авторов к унифицированному описанию электромагнетизма и гравитации несет в себе не маловажный и не сиюминутный мотив для того, чтобы устранить диссонанс двух теоретических описаний в их отклике на конформное преобразование метрики пространства-времени. Воспринимая теорию Уилера-Фейнмана излучения с поглотителем и вводя реакцию (response) Вселенной на локальный микроскопический эксперимент, Хойл и Нарликар находят возможным распространить принцип Маха на классическую и квантовую электродинамику. В теории же гравитации принцип Маха получает количественную трактовку в определении масс частиц через скалярное поле их прямого взаимодействия, так что масса каждой из них обусловлена интегральным вкладом всех других в качестве «фона». Протагонистом современной истории принципа Маха является Ю.С. Владимиров (хотя кто-то может и не разделять нашей точки зрения), с именем которого мы связываем в нашей периодизации пятый, шестой и седьмой этапы. На этих этапах теория прямого межчастичного взаимодействия сначала формулируется в рамках унарной реляционной теории [4], затем развивается в бинарную предгеометрию, основанную на общей теории бинарных систем комплексных отношений [21], наконец, трансформируется в реляционно-статистическую теорию, реализующую идею о статистической, макроскопически интерпретируемой природе классического континуума пространства-времени. Оглядывая этот путь современного развития принципа Маха, можно резюмировать: альфа и омега этого пути - реляционная парадигма, альтернативная доминирующим сегодня в физике геометрической и полевой парадигмам. Она опирается на три постулата, «die allerdings keineswegs voneinander unabhängig sind»: a) постулат о реляционно-статистическом происхождении классического пространства-времени, b) принцип дальнодействия, c) принцип Маха. Согласно первому, пространство-время ни в какой мере не есть самостоятельная физическая сущность, а являет собой статистический результат огромного количества отношений между элементарными событиями, происходящими, как принято говорить, «на квантовом уровне». Второй постулат логически связан с первым: если реальность на квантовом уровне ее описания нельзя понять как пространственно-временну́ю реальность (чем, кстати, вызван тот «кризис понимания» квантовой механики, который как таковой был диагностирован К. Поппером), то взаимодействия между элементарными частицами должны быть трактованы как непосредственные отношения между элементами реальности, не гипостазированные в качестве неких распространяющихся в том, «чего еще нет, но будет» (как словами Плотина сказали бы мы о пространстве-времени), «переносчиков» этих взаимодействий. Отсюда - неизбежный отказ от концепции близкодействия в пользу концепции дальнодействия, принцип которой мы по традиции называем «принципом дальнодействия», но который сам по себе есть принцип прямого, не опосредованного пространством-временем, действия. Что касается третьего постулата - принципа Маха, утверждающего зависимость свойств локальных физических объектов от окружающей их материи Вселенной, - то он выступает здесь равноправно с двумя другими: в рамках реляционной парадигмы он совершенно естествен, поскольку в основе этой парадигмы лежат древние интуиции о мировой симпатии (ἡ ἐν τῷ κόσμῳ συμπάθεια, συμπάθεια πάντων), современной версией которых являются представления о математизируемой всеобщей связи между материальными объектами Вселенной. Совершенно естественно вписывается в реляционную парадигму и идея иерархии отношений. В связи с понятием иерархии естественно возникает, далее, понятие об «уровнях» и «масштабах». Конечно, мы не забываем о том, что с феноменологической точки зрения всё «естественное» должно быть еще приведено к ясности. Но, намечая здесь цели будущих исследований, выскажем предположение, что отношения, интерпретируемые как пространственно-временны́е, могут быть негомогенной иерархической структурой: свойства их на разных уровнях иерархии могут быть существенно различными. Это предположение согласуется с идеями Д.И. Блохинцева, нашедшими отражение в его замечательной книге «Пространство и время в микромире». Важнейшая среди них та, что характер причинной связи в мире элементарных частиц может быть другим, нежели в макромире, где детерминизм сводится к известной однозначности (eorundem effectuum sunt eaedem causae[6]) и где, к примеру, опережающие эффекты по тем или иным причинам не дают уже о себе знать[7]. «Разумно заметить, - писал Блохинцев, - что если элементарная частица не разложима на составные части, которые могли бы быть соединены световыми сигналами, то нет никаких оснований предполагать, что причинная связь внутри элементарных частиц или в тесных комплексах этих частиц, возникающих в течение соударения, будет такой же, какая характерна для событий, отделенных друг от друга расстояниями, существенно превосходящими размеры элементарных частиц» [22. С. 244]. Другими словами, сам факт элементарности «элементарных частиц» может рассматриваться как свидетельство того, что классические пространственно-временны́е понятия, каково привычное понятие причинности, мыслимое в соответствии с принципом «propter hoc est post hoc», имеют границы применимости и что теоретическое описание «внутренней» структуры элементарных частиц, придающее смысл самому́ этому «внутри», требует модификации этих понятий, расширения их за рамки привычных представлений. Блохинцевым было предложено несколько теоретических схем такой модификации понятия причинности для малых масштабов пространства-времени. Некоторые из них основаны на идее об изменении геометрии пространства-времени в микромире сравнительно с геометрией макро- и мегамира. Другие схемы допускают причинную связь данного события с событиями вне его светового конуса, что означает возможность ассоциировать его со сверхсветовым взаимодействием. «Тем не менее, - оговаривается Блохинцев, - подобное взаимодействие совместимо лишь со статистическим описанием явлений» [23. С. 321]. Такого рода взаимодействие он называл обобщенным взаимодействием, прибавляя, что оно не сводится «к концепции физического поля» [22. С. 238]. В этих и других идеях Блохинцева, к которым не раз привлекалось внимание в работах Ю.С. Владимирова, проступают контуры реляционной парадигмы. На наш взгляд, изменение микрогеометрии, предлагаемое Блохинцевым, должно быть более радикальным и идти дальше изменения способа задания метрики: замены традиционной римановой метрики на метрику стохастическую, ведущую к стохастической арифметизации пространства-времени. Это изменение должно предпосылать себе вообще отказ от пространства-времени как априорной данности, но при этом быть «генетически» обусловленным, как все апостериорное генетически обусловлено a priori. Другими словами, геометрия должна быть обусловлена предгеометрией. В иерархии масштабов, на любом уровне этой иерархии, метрика пространства-времени должна быть «индуцированной», ее изменение от уровня к уровню должно быть логически - стало быть, аподиктически - выверено и по возможности верифицировано опытом. Так как результаты измерений - отношений особого рода - всегда выражаются рациональными числами, то для необходимого, с точки зрения математического описания реальности, пополнения поля рациональных чисел нам, придерживаясь идеала a priori, не следует ограничиваться той возможностью, какая связана с вещественными числами и с использованием вещественных норм, но следует допустить и альтернативную возможность, связанную с p-адическими числами и соответствующими нормами [24; 25]. Не очевидно, конечно, что эта мотивация, берущая силу в верности идеалу a priori, может привести нас к какому-то подобию успеха. Скажут: если a priori означает «от более общего к менее общему», то не понятно, почему к арифметизации пространства-времени должны вести метрики, порожденные нормой, ведь существует сколько угодно и более общих случаев метрики. Но не выводятся ли из игры эти более общие случаи метрики принципом Маха? Если имеет априорную значимость аргументация Хойла и Нарликара, то с принципом Маха могут быть совместны только метрики, допускающие конформное (масштабное) преобразование, то есть такие метрики, которые наследуют у нормы свойство однородности и, стало быть, порождены нормой. Нет нужды особо подчеркивать, что речь идет о гипотезе. В любом случае мы можем только надеяться, что «кризис понимания» квантовой механики может быть преодолен, если мы откажемся от априорной данности пространства-времени в микромире и перейдем, с опорой на принцип Маха, к реляционной парадигме для построения реляционно-статистической теории пространства-времени микромира. 3. Η ΕΝ ΤΩ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΕΔΙΩ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ[8] Очерченная здесь в довольно общем виде история принципа Маха дает нам фактический материал, который мы, однако, намерены подвергнуть целенаправленной философской обработке. Имея в виду рецептуру «приведения к ясности» из четвертой главы третьего тома гуссерлевых «Идей» [26], мы намерены произвести ревизию «материальной части» этого принципа, формулируемого сегодня, в сухом остатке всей его истории, не единственным и даже существенно различным образом (обзор различных его формулировок см. в книге [27. P. 530]), с тем чтобы с использованием гуссерлевского метода вариаций вычленить твердое ядро его, которое могло бы обладать априорным истинностным значением, феноменологически точно определяемым (это истинностное значение может и не быть «истиной»). Что такое точное определение истинностного значения некоторого смыслового (ноэматического) ядра «принципа Маха» возможно - это не вопрос веры, но вопрос логики. Точное совпадение угловой скорости вращения относительно Земли плоскости колебаний маятника Фуко, помещенного на полюсе, с угловой скоростью вращения Земли относительно далеких звезд порождает логическую проблему, которую в англоязычной литературе по философии науки принято обозначать как «underdetermination of theories by evidence». В данном случае, по всей видимости, мы оказываемся перед лицом дилеммы, предельно отчетливо сформулированной С. Вейнбергом: «…необходимо либо допустить существование ньютоновского абсолютного пространства-времени, которое определяет инерциальные системы и относительно которых реперные галактики покоятся, либо полагать („верить“, на наш взгляд, здесь менее удачный перевод оригинального „believe“. - А. Т.), как и Мах, что инерция обусловлена взаимодействием с усредненной массой всей Вселенной» [28. С. 30-31]. Выбор между двумя этими предположениями одинаково труден, поскольку реакцию неприятия вызывает как ньютонов абсолютизм, так и такое, по выразительному описанию Дж. Орира, следствие принципа Маха: «Когда вы стукаетесь головой о стену, это означает, что у удаленных галактик возникает внезапное ускорение и они действуют на вашу голову громадной гравитационной силой. Чтобы удержать вашу голову „в покое“, стена должна оказать равную по величине и противоположно направленную реакцию. Так что в следующий раз, стукнувшись головой или ударив, споткнувшись, палец на ноге, шлите проклятия за это далеким галактикам» [29. С. 355]. Мы бы, однако, поостереглись слать проклятия небу. Ведь и вообще говорить о каких бы то ни было следствиях «принципа Маха» можно только тогда, когда знаешь точно, что же собственно утверждается этим так называемым принципом. Что же ipso facto означает совпадение угловых скоростей вращения относительно Земли плоскости колебаний маятника Фуко и вращения самой Земли относительно «неба неподвижных звезд», если это не утверждаемое Ньютоном абсолютное пространство и если в сущностной основе факта не может лежать простое логическое отрицание? Вопросы такого рода, свидетельствующие о проблемной ситуации, приводят ум в замешательство - шаткое состояние, когда не ум распоряжается ситуацией, а ситуация им, - но в законном своем стремлении к порядку, ища его и выходя тем самым из этого состояния, он пускается «блуждать», и это уже почти что мышление, до которого, чтобы стать им, блужданию ума недостает только малого - сополаганий, или, по-гречески, синтезов, выражаемых в понятиях. Понятия именно синтезируются, и в этом суть Платоновой «сократической» процедуры - процедуры абстрагирования по Платону, в отличие от аристотелевской абстракции: понятие является в своей чистоте не путем отвлечения его от единичных инстанций, например круга от того или того медного круга, post res, а путем их смыслового наложения и синтеза совпадающих моментов смысла, ноэматических моментов, как назовет их Гуссерль, так что оно, как чистый эйдос, как прекрасное в прекрасном, усматривается в самих единичных инстанциях и, коренным образом, помимо них, in rebus и ante res. Гуссерлев метод приведения к ясности есть, говоря вообще, такая сократическая процедура. Это приведение к ясности и есть мышление, ибо мыслить - значит мыслить ясно. И если бы нам недостаточно было образцовых гуссерлевских штудий для восприятия его метода, то путеводную нить в том, как надлежит нам обращаться с единичными инстанциями, объединяемыми под именем «принцип Маха», мы подхватили бы в этих словах Эйнштейна, открывающих сущность мышления: «Что значит, в сущности, „думать“ („Denken“)? Когда при восприятии ощущений, идущих от органов чувств, в воображении всплывают картины-воспоминания, то это еще не значит „думать“. Когда эти картины становятся в ряд, каждый член которого пробуждает следующий, то и это еще не есть мышление. Но когда определенная картина (Bild) встречается во многих таких рядах, то она, в силу своего повторения, начинает служить упорядочивающим элементом для таких рядов благодаря тому, что она связывает ряды, сами по себе лишенные связи. Такой элемент становится орудием, становится понятием. Мне кажется, что переход от свободных ассоциаций или „мечтаний“ („Träumen“) к мышлению характеризуется той, более или менее доминирующей, ролью, какую играет при этом „понятие“. Само по себе не представляется необходимым, чтобы понятие соединялось с символом, действующим на органы чувств и воспроизводимым (со словом); но если это имеет место, то мысль может быть сообщена другому лицу» [13. С. 260-261]. Хорошо будет, если в этой статье мы хотя бы в одном пункте возвысимся до мышления. Работая с той материальной частью принципа Маха, которой мы ограничимся, мы ассоциативно, стало быть непрерывным образом, упорядочим, в качестве единичных инстанций, различные версии его. И это хоть и не стали бы мы называть «мечтанием», но, очевидно, нельзя еще назвать и «мышлением», а только переходом к мышлению - «блужданием ума». Такое блуждание не могло бы быть преддверием мышления, если бы не совершалось «в поле истины», в силовом поле ноэматического ядра принципа Маха. Воссоздать «картину» этого силового поля, восстановить это ядро - задача не из легких, требующая проясняющих феноменологических рефлексий в каждом переходе от одной версии принципа к другой и рефлективного схватывания в совершенной ясности ноэматических моментов ядра, что предвещает несоразмерную объему статьи работу, сравнимую, пожалуй, с кропотливой работой старателей, сквозь грохоты свои намывающих крупинки благородного металла. Объему статьи соразмерна не эта, но более скромная задача - задача апробации, и даже экспресс-апробации, элементов метода приведения к ясности, в частности такого элемента связанной с ним техники варьирования, как смысловое наложение вариантов (Deckung). И хорошо, повторим, если нам удастся из разнообразного фактического материала, нам предлежащего, извлечь хотя бы один такой ноэматический момент. Одна из возможных траекторий «блуждания» ума, которое «имеет характер непрерывности и постоянства и совершается… по полю истины», как некогда переводили вот эту плотиновскую вариацию Платона, заключающую в себе ноэматическое ядро самого метода приведения к ясности: πανταχοῦ αὐτός ἐστι· μένουσαν οὖν ἔχει τὴν πλάνην, ἣ δὲ αὐτῷ ἐν τῷ τῆς ἀληθείας πεδίῳ[9] (Enn. VI 7, 13, 33-34), - могла бы исходить из данной Вейнбергом формулировки принципа Маха. Напомним ее: «Инерция обусловлена взаимодействием с усредненной массой всей Вселенной». Обозначим эту формулировку как начальный пункт «траектории ума», символом ᴹᵃᶜʰout, имея в виду обозначения Г. Бонди и Дж. Сэмюэля различных версий этого принципа Mach0, Mach1 и т.д. [30][10], которые, в целях наглядности, мы несколько модифицируем: ᴹᵃᶜʰ0, ᴹᵃᶜʰ1 и т.д. Дальше мы будем обращаться к формулировкам принципа из списка этих авторов, полагая, что в данном случае, ограничивая себя в материале, мы тем не менее не ограничиваем себя в существенном смысле. (Более обширный список формулировок, с числом позиций примерно вдвое бо́льшим, представлен, как уже говорилось, в книге [27].) В меру близости, предполагаемой «непрерывностью ноэзы», или, если угодно, «экономией мышления», следующим пунктом на этой траектории, по нашим представлениям и в силу очевидности, будет версия ᴹᵃᶜʰ6: «на инертную массу влияет глобальное распределение материи». Мера близости определяется степенью смыслового перекрытия версий, которое может выступить и как «очевидно данное» в совпадениях на вербальном уровне. Так, очевидна аттракция «влияния глобального распределения материи» и «влияния космического движения и распределения материи» в версии ᴹᵃᶜʰ3 («на локальные инерциальные системы отсчета влияет космическое движение и распределение материи, причем так, что у Вселенной, представление о которой дает среднее движение материи - в каком-то смысле „среднего“, еще нуждающемся в уточнении, - нет наблюдаемых признаков вращения, когда наблюдатели жестко связаны с этими системами отсчета») - версии, наиболее близкой, как замечают Бонди и Сэмюэль, к ситуации Ньютонова эксперимента с ведром; в свою очередь, этой последней версии близка, по тому же критерию «очевидно данного», версия ᴹᵃᶜʰ0, отправная для Бонди и Сэмюэля: «У Вселенной, как ее представляют по среднему движению далеких галактик, нет видимых признаков вращения относительно локальных инерциальных систем отсчета». Понятие «локальных инерциальных систем отсчета» в версиях ᴹᵃᶜʰ3 и ᴹᵃᶜʰ0, конечно, нуждается сначала в приведении к отчетливости, а затем и к ясности, поскольку вполне может быть, что в каком-то своем значении понятие «инерциального» в логической оппозиции к «неинерциальному» противоречит основной тенденции принципа Маха, выявляемой по мере его прояснения, отчего такие формулировки принципа, в которых не устранена эквивокация, чреватая антиномиями, требуют, как говорил Гуссерль, корректуры. То же можно сказать о формулировках, содержащих понятие «пустого пространства». О них - в свое время. Утверждаемое в версии ᴹᵃᶜʰ0 отсутствие вращения Вселенной, понимаемого в относительном смысле, имеет место, в большей или меньшей степени контекстуальной корреляции с этой версией, и в формулировках ᴹᵃᶜʰ5 («полная энергия, угловой и линейный импульс Вселенной равны нулю») и ᴹᵃᶜʰ10 («жесткие вращения и трансляции системы как целого ненаблюдаемы»). Версия ᴹᵃᶜʰout может быть отправным пунктом и какой-нибудь еще - и не одной! - траектории мысли, ибо было бы странным думать, что намеченная нами выше траектория ᴹᵃᶜʰoutᴹᵃᶜʰ6ᴹᵃᶜʰ3ᴹᵃᶜʰ0ᴹᵃᶜʰ5ᴹᵃᶜʰ10 единственна. Ведь список Бонди и Сэмюэля, как говорят они сами, далеко не исчерпывающий. Кроме того, мы должны рассмотреть переходы, не однородные с уже рассмотренными, переходы другого типа: между версиями, противоположными по качеству, но близкими по смыслу. Парадигмой таких переходов может служить логическая операция превращения (обверсии) суждения. Это своего рода переходы к новому представлению, как их можно было бы назвать. Так, в качестве эквивалентного суждения, связывающего понятия, в определенном смысле логически дополнительные к тем, что связываются в версии ᴹᵃᶜʰout, к ней примыкает версия ᴹᵃᶜʰ2: «изолированное тело в пустом пространстве не обладает инерцией». Непрерывность перехода от ᴹᵃᶜʰ2 (где, по-видимому, допускается существование пространства в отсутствие материи, «пустого пространства») к ᴹᵃᶜʰ7 («если устранить всю материю, то не будет и никакого пространства») может и должна обсуждаться, но, по внешнему признаку «очевидно данного», среди оставшихся в списке Бонди и Сэмюэля версий последняя, на наш взгляд, стоит ближе других к версии ᴹᵃᶜʰ2. Непосредственным следствием версии ᴹᵃᶜʰ7, особо значимым для Эйнштейна в пору приверженности его принципу Маха, является утверждение версии ᴹᵃᶜʰ4 о том, что Вселенная пространственно замкнута («конечна и в то же время безгранична», говорит он, уподобляя ее сфере [31. С. 90]). Существование пространственной границы Вселенной означало бы и существование, по ту сторону границы, пространства без материи, что привнесло бы абсолютный элемент в граничные условия, тогда как, напротив, по логике рассуждений Эйнштейна в передаче ее К. Хёфером, «если нет граничной области… то нет возможности определить метрику не по Маху» [27. P. 80]. Далее, отрицание пространства «без материи», каковым, конечно, мыслится и абсолютное пространство (хотя логический объем понятия «пустого пространства», вероятно, больше объема понятия «абсолютного пространства», иначе не было бы смысла говорить о нетривиальных решениях уравнений общей теории относительности «в пустоте»), может повлечь мысль к отрицанию наличия в теории вообще чего бы то ни было «абсолютного» и перейти таким образом на орбиту версии ᴹᵃᶜʰ9, согласно которой принципиально «не существует никаких абсолютных элементов», что можно трактовать как принцип общей ковариантности в чистейшем виде. Стоит привести здесь комментарий Бонди и Сэмюэля к этой версии, чтобы по возможности не допустить неясности в ее формулировке: «Элементы, фигурирующие в теории, - например, поля́ - можно разделить на динамические (варьируемые в принципе действия) и абсолютные (не варьируемые). Принцип действия ведет к уравнениям, которым должны удовлетворять динамические поля. Абсолютные же элементы предзаданы и не затрагиваются динамикой» [30. P. 123]. Таким абсолютным элементом в общей теории относительности является гравитационная постоянная G, на что указывал, в частности, индийский астрофизик Ч.С. Шукре (C.S. Shukre). Если лишить этот элемент абсолютности и отнестись к нему как к динамическому элементу, рассматривая его уже не как фундаментальную постоянную, но как поле, допускающее вариации, то тем самым мы «вошли бы в контакт» (would make contact, по выражению Бонди и Сэмюэля) с версией ᴹᵃᶜʰ1, в которой утверждается, что «ньютоновская гравитационная постоянная G есть динамическое поле». Так обстоит дело, например, в теории Бранса и Дикке [32], где ньютоновская гравитационная постоянная, как динамическое поле, является функцией скалярного поля ϕ, связанного с распределением масс во Вселенной, а как размерное число с известным значением, определяемым hic et nunc, то есть локально в пространственно-временно́м смысле (например, в опытах с близко расположенными массами), связывается со средним значением <ϕ> этого скалярного поля, и в этой специфической связи локально и глобально детерминированных численных значений находит свое количественное выражение принцип Маха, как он ранее был сформулирован Д. Сиамой: G<ϕ> ≈ -c2 [33]. В случае однородного распределения масс, характеризующегося плотностью ρ вещества во Вселенной, <ϕ> ~ -ρc2T2 (с точностью до численного множителя того же порядка, что и π). Здесь cT - произведение скорости света и времени Хаббла, равное радиусу наблюдаемой части Вселенной. Отсюда связь «локальных» и «глобальных» параметров становится более очевидной: ρGT2 ~ 1. Гравитационная постоянная G есть локальный параметр, поскольку она, как уже говорилось, может быть измерена в лабораторных условиях, тогда как определение ρ и T требует астрономических наблюдений (величина, обратная времени Хаббла T, есть не что иное, как постоянная Хаббла). Очевидный смысл этого соотношения тот, что, как выходит, «локальные явления сильно связаны со Вселенной в целом, а не только с локальными условиями» [33. P. 36]. Уже сейчас можно предвидеть, в силу общности понятий, в которых схватывается этот смысл, что здесь мы вплотную подступаемся к ноэматическому ядру принципа Маха. Примечательно, что придание принципу математической формы дает и прибыток ясности в области его смысла, что не кажется противоестественным, если эта область смысла лежит в Платоновом «поле истины». Проясняющая феноменологическая рефлексия, полагающая своей темой этот намеченный нами переход от ᴹᵃᶜʰ1 к ᴹᵃᶜʰ8 («Ω = 4πρGT2 - определенное число порядка единицы»), наряду с тематизацией всех других «непрерывных» переходов между уже данными версиями, ни одна из которых не принимается нами на веру, требует особых ноэтических феноменологических исследований, а если иметь в виду детальную проработку вновь и вновь возникающих тут ad hoc переходов, само собой разумеющихся под «непрерывностью ноэзы», то скорее даже, так сказать, катаноэтического феноменологического опыта, аналитико-синтетического, сочетающего дедуктивное a priori, характерное для матезы, с феноменологическим a posteriori в своеобразном качестве индуктивного завершения. Нельзя не согласиться поэтому с Бонди и Сэмюэлем в том, что «имеет смысл не оставлять попыток создать теорию, в которой это приблизительное равенство (Ω ~ 1. - А. Т.) появляется естественно (такова, например, инфляционная космология)» [30. P. 123]. Важно, однако, отдавать себе отчет в том, что такая теория не может быть ни верифицирована, ни фальсифицирована в рамках той эмпирически ориентированной методологии, на которой держатся сегодня физика и космология. Это «ongoing effort» будет усилием, совершающимся в «поле истины», то есть будет обладать научной ценностью, если только линии приложения его будут координированы методически, сообразно методу, исходящему из того же неэмпирического источника, что и сама космологическая идея - целевой принцип любой космологической теории. Метод вариаций не только не теряет в эффективности, но даже выигрывает в силе от того, что варианты, переходы между которыми образовали траекторию ᴹᵃᶜʰoutᴹᵃᶜʰ2ᴹᵃᶜʰ7ᴹᵃᶜʰ4ᴹᵃᶜʰ9ᴹᵃᶜʰ1ᴹᵃᶜʰ8, как и ранее траекторию ᴹᵃᶜʰoutᴹᵃᶜʰ6ᴹᵃᶜʰ3ᴹᵃᶜʰ0ᴹᵃᶜʰ5ᴹᵃᶜʰ10, не плод нашей индивидуальной фантазии, а «сухой остаток», как было сказано, или, как говорит Гуссерль, «осадок», sedimentäre Ablagerung, истории осмысления принципа Маха научным сообществом. Имагинативный потенциал коллективного субъекта, каковым является научное сообщество, очевидно, превосходит возможности любой индивидуальной фантазии. Именно поэтому, артикулируя более общую и обширную задачу, чем та, что стоит перед нами, - задачу интеллектуального проникновения к истокам геометрии, - Гуссерль исходил из того, что дело прояснения геометрии состоит в раскрытии ее исторической традиции: Evidentmachung der Geometrie ist Enthüllung ihrer historischen Tradition [34. S. 380]. Перед нами, однако, более скромная задача, но и она требует усилий, для которых объем данной статьи слишком тесен. Разве только ради примера мы можем присмотреться внимательнее к какому-нибудь из намеченных выше переходов, хотя последовательной тематизации и рефлексий, имеющих тенденцию к индуктивному завершению, требует каждый из них. Полноценное исследование, которого требует наша задача, должно быть в своей основе тем, что Гуссерль называл процессом идеации: не беспорядочным, но методически-продуктивным «блужданием мысли», или, как дословно это у Гуссерля, «производящим протеканием» ее «сквозь многообразие вариаций» (erzeugendes Durchlaufen der Mannigfaltigkeit der Variationen). Если соблюдено условие непрерывности рефлексий, непрерывности смысла всех «вновь и вновь» возникающих в этом процессе переходов, как изначально тематизируемых, так и производных от них, то в каждом из этих переходов может быть схвачен тот или иной ноэматический момент, интегрируемый, с каким-то весом, вместе со всеми другими такими моментами в некое априорное ядро, нами отыскиваемое, ибо, как и всегда, непрерывность обеспечивается тем тождеством смысла в наложении вариантов, которое, очевидно, восходит к априорному источнику. Мы говорим об интегрировании ноэматических моментов - Гуссерль говорит об их связывании: о единообразном связывании, или композиции, в непрерывном наложении (einheitliche Verknüpfung in fortwährender Deckung). Этот процесс идеации, как сократическая процедура определения понятия в его чистоте, внутренне организуется платоновской диалектикой идей тождественного и иного - подлинными (eigentlichen), относящимися к познанию, а не к одним только формулировкам, идентифицирующими и дифференцирующими синтезами: высматривающей активной идентификацией «совпадающего» в противовес различиям, говорит Гуссерль (herausschauende aktive Identifizierung des Kongruierenden gegenüber den Differenzen) [6. S. 419]. Объективирующий характер этих синтезов, идет ли речь о драконе или об элементарных частицах, не означает экзистенциальных высказываний о называемых предметах, не предрешает их существования, а имеет значение условных высказываний такого рода: «Если объект существует, то он с необходимостью имеет такие-то и такие-то свойства» (Die Eigenschaften und sonstigen Beschaffenheiten sind wahrhaft seine, falls er existiert) [35. S. 429]. Таковы же синтезы, конституирующие физические принципы и законы, к которым в конце концов должно быть сведено понятие физической реальности. Унивокальность формулировок того или иного принципа или закона проистекает в конце концов из того же реального источника смысловой тождественности, благодаря которому и математическое выражение этого принципа или закона дается «равенством» или «уравнением». Так и многочисленные формулировки принципа Маха, насколько они унивокальны, должны быть следствиями того изначального «переживания тождества» (Erlebnis von Identität), что составляет суть мысленного эксперимента Маха, обсуждаемого им в связи с Ньютоновым экспериментом с ведром. Не было бы никакой возможности связать эти формулировки и этот мысленный эксперимент и, стало быть, вообще говорить о «формулировках принципа Маха», если бы в непрерывности каждого перехода, сочленяющего формулировки в «траекторию», не сказывалась единящая их с этим экспериментом искомая нами тождественная сущность. «Этой непрерывностью изменения вершится ход тождественного, а именно тождества сущности, вот этого „что“, „что“ пребывающего тем же самым» [36. S. 207]. Поскольку выше мы взяли под вопрос непрерывность перехода ᴹᵃᶜʰ2ᴹᵃᶜʰ7, то будет правильно, в качестве примера, сделать его темой рефлексии. Итак, что дает нам сравнение формулировок этих версий: «изолированное тело в пустом пространстве не обладает инерцией» (ᴹᵃᶜʰ2) и «если устранить всю материю, то не будет и никакого пространства» (ᴹᵃᶜʰ7)? Что в наложении смыслов, ассоциированных с «пространством» в первой из этих версий и с «пространством» во второй, приходит к согласию, а что - противоборствует? Попытка мыслить «пространство» в той и другой версии как «протяженность» саму по себе, вроде улыбки чеширского кота, или как «вместилище», в духе древних атомистов и Ньютона, для которого оно к тому же «sensorium Dei», ведет, по-видимому, к неразрешимому противоречию: согласно первой версии такое «пустое» пространство может существовать, тогда как согласно второй - не может. Сомнение в непрерывности перехода от первой ко второй версии возникло из-за этого противоречия. Смысловое перекрытие версий, однако, возможно, если наделить разумным смыслом это самое «пустое пространство», пусть даже он не будет, как мы увидим, свободен от амбивалентности, от которой не свободен, по природе своей, и разум. С точки зрения квантовой физики «пустое пространство» (по-латыни - vacuum), как известно, вовсе не пусто: поля «материи», если они принимают нулевые значения в какой-то одной точке пространства-времени - что всегда можно допустить, соответствующим образом определив поля, - не могут быть равны нулю во всех точках пространства-времени, то есть тождественно равны нулю; последнее вошло бы в противоречие с коммутационными соотношениями для полей, столь же всеобщими и логически необходимыми, как и квантовый принцип действия, определяющий уравнения движения этих полей. Другими словами: классический вакуум невозможен в силу запрета, устанавливаемого Гейзенберговыми соотношениями неопределенностей для полей материи. Поэтому «пустое пространство» в версии ᴹᵃᶜʰ2 есть идеализация, в которой пренебрежено квантовыми вакуумными эффектами. Как такая классическая идеализация оно, конечно, может существовать в «отсутствие» материи. Кроме того, как отмечают Бонди и Сэмюэль, существует некоторая неясность в отношении того, что означает в формулировках принципа Маха термин «материя»: «Включает ли „материя“ гравитационные степени свободы?» - спрашивают они. Традиционно, как мы знаем, в общей теории относительности термином «материя» обозначается все то, информация о чем содержится в правой части уравнения Гильберта - Эйнштейна - в так называемом тензоре энергии-импульса материи. Гравитация же описывается в этой теории чисто геометрически: в роли гравитационного потенциала выступает фундаментальный метрический тензор пространства-времени. И, как известно, уравнение Гильберта - Эйнштейна имеет вакуумные решения, когда правая, «материальная», часть уравнения равна нулю. Такими вакуумными решениями являются, в частности, гравитационные волны. Принцип Маха в формулировке ᴹᵃᶜʰ7 (А. Эддингтон в своей книге «Пространство, время и тяготение» формулирует его буквально так: «пространство и инерциальная сеть неотделимы от существования материи» [37. С. 164]), как и в формулировке ᴹᵃᶜʰ2 (там же у Эддингтона двумя строками выше: «мы бы не обнаружили в мире инерции, если бы внесли в него только одно пробное тело»[11]), идет вразрез с фактом существования нетривиальных вакуумных решений в общей теории относительности, поскольку и гравитационный вакуум в отсутствие материи может существовать, и пробное «изолированное тело» в таком вакууме, населенном, например, гравитационными волнами, будет обладать инертными свойствами. Итак, если бы удалось, прибегая к спасительным оговоркам, полностью употребить смысл каждой из этих двух формулировок в состав ноэмы принципа Маха, то, ввиду расхождения обеих с фактом существования классического гравитационного вакуума, принцип Маха должен был бы быть отвергнут как попросту ложный. И тогда в дилемме, сформулированной Вейнбергом, нам следовало бы принять сторону Ньютона: абсолютное пространство-время существует. Однако та же противосмысленность, ассоциированная с понятием пространства, которая могла породить сомнения в непрерывности перехода от версии ᴹᵃᶜʰ2 к версии ᴹᵃᶜʰ7, с очевидностью показывает нам то, что в состав ноэмы принципа Маха, которая ведь должна мыслиться без противоречия, обе версии входят лишь перекрывающимися частями своего смысла, оставляя все противосмысленное за пределами ноэмы, и что мы имеем дело здесь с дифференциацией, идея которой, по Гуссерлю, «должна пониматься только в ее сплетении с идеей тождественно общего в качестве эйдоса» [6. S. 418]. В пользу необходимости такого диалектического понимания актов определения компонентов ноэмы говорит следующий его аристотелианский довод: «…ничто из того, что не имеет ничего общего, не может вступить в противоречие» [Ibid.]. Довод этот именно аристотелианский, но не эпигонски вторящий Аристотелю: Гуссерль если и домысливает классиков философии, то всегда так, как делает это поэт, сплавляющий оригинальность с мудростью традиции. В «Категориях» Аристотель говорит о первых сущностях: ἡ δέ γε οὐσία ἓν καὶ ταὐτὸν ἀριθμῷ ὂν δεκτικὸν τῶν ἐναντίων ἐστίν[12] (Cat. 4 a 17-18). Гуссерль, как видим, распространяет эту мысль Аристотеля на понятийные сущности, или эйдосы. Таким образом, переосмыслению, а именно ограничению в пределах ноэмы принципа Маха и элиминации противосмысленного за ее пределы, должно быть подвергнуто понятие «пустого пространства» и вообще «пространства», а если быть точным, не упуская из виду фундаментальные следствия постулатов специальной теории относительности, сохраняющие свою силу и для общей теории относительности, то понятие единого четырехмерного комплекса «пространства-времени». В результате такой сублимации смысла «пространства-времени» остается несублимируемым тот значимый для априорного ядра принципа Маха ноэматический момент этого понятия, каким оно уже наделялось в истории философской мысли, когда под влиянием критической философии Канта было поколеблено мнение о нем как о гипостазированной протяженности, как о вместилище тел, процессов и событий. Мы имеем в виду концепцию пространства и времени неокантианцев Марбургской школы - П. Наторпа и Э. Кассирера. И тот и другой, вслед за Кантом и главой школы Г. Когеном, мыслили пространство и время как способ, или метод, координации данного. Уже Ньютоновы абсолютное пространство и абсолютное время должны мыслиться так и только так. «Таким образом, - писал Кассирер, - отпадает гипостазирование абсолютного пространства и абсолютного времени в трансцендентные вещи; но они остаются в качестве чистых функций, благодаря которым и возможно только точное познание эмпирической действительности» [40. С. 211]. Пространство и время, по Наторпу и Кассиреру, имеют, в конце концов, смысл отношения; они суть реляционные структуры, координирующие τὰ οἷα ἂν γένοιτο, τὰ γεννητά - то, что еще не дано, не стало «данным», а только может при случае стать таковым, «квазиданное». Когда Наторп говорит о пространстве и времени, что они суть reine Relationen ohne voraus gegebene Relata («чистые отношения без наперед данных соотнесенных предметов») [41. S. 276], он привносит в дискурс о них амбивалентный смысл, присущий всякому отношению, - как, во-первых, на стороне relatorum, поскольку эти самые relata могут пониматься и как сущие в некотором множестве объектов, на котором определено данное отношение, и как не сущие в том же множестве, так и, во-вторых, на стороне relationum, самих отношений, поскольку их существование зависит от существования множеств, для которых они определяются. Сказанное поясним на примере бинарных отношений xRy, к множеству которых может быть сведено любое отношение. Они определены для множеств X и Y, но это не означает, что область определения всякого такого отношения совпадает с множеством X, а область изменения - с множеством Y. Первая есть подмножество δR⊆X всех таких x, для которых в множестве Y найдутся y, удовлетворяющие в паре с этим x данному отношению R. Вторая есть подмножество εR⊆Y всех таких y, для которых в множестве X найдутся x, удовлетворяющие данному отношению в паре с этим y. Так и в частном случае отношений xRx подмножество δR всех x из X, на котором определено данное отношение R, то есть область определения этого отношения, будучи одновременно и областью его изменения, не совпадает, вообще говоря, со всем множеством X, для которого отношение R определяется. Продолжим наши пояснения на конкретном примере сугубо иллюстративного характера. Рассмотрим отношение, выражаемое иррациональным уравнением √¯|¯x¯|¯ = x. Это отношение определено для всех вещественных x. (Ничего существенно не меняет понимание x как комплексного числа; в любом случае природу соотносимых объектов необходимо оговаривать.) Множество корней этого уравнения, то есть числа 0 и 1, образует как область определения, так и область изменения этого отношения. Ясно, что эта область - далеко не все вещественные x. Возвращаясь к философской терминологии, мы другими словами могли бы сказать, например, что число 1 существует в области определения этого отношения, оно сущее relatum в том множестве объектов, на котором это отношение определено. А, скажем, числа 2 в указанной области определения не существует, и если понимать его как relatum однородно с 0 и 1, то, поскольку подстановка его в данное уравнение приводит к ложному высказыванию √2¯ = 2, его следует квалифицировать как не-сущее relatum. Отрицание «не-» имеет здесь относительный смысл, как в платоновской паре τὸ μὴ ὄν и τὸ ὄν: не-сущее в одном отношении может стать сущим в другом отношении. И наоборот: сущее relatum может точно так же стать не-сущим - стоит только модифицировать отношение, перейти от одного к другому. Если, например, вместо прежнего уравнения взять его модификацию √¯|¯x¯¯-¯¯1¯|¯ = x - 1, то в этом новом отношении число 2 есть уже сущее relatum, тогда как в прежнем оно было не-сущим. А число 0 из сущего в прежнем отношении превращается в не-сущее relatum в новом. Мы не стали бы преувеличивать значение и вес этих примеров. Их едва ли можно рассматривать как модели соотнесенности практики с физическими принципами и законами. Последние выражаются уравнениями иного рода; преимущественно - как повелось со времен Ньютона - дифференциальными. Помимо функций, соотносимых этими уравнениями, сюда входят также параметры. Например, в эйнштейновские уравнения космологических моделей может входить средняя плотность вещества во Вселенной, а, скажем, в уравнения Максвелла - характерные плотности электрических зарядов, токов, диэлектрическая и магнитная проницаемости среды и т.п. Кроме того, для математического описания конкретных физических ситуаций недостаточно одних только дифференциальных уравнений. Устранение известной неоднозначности такого дифференциального описания достигается заданием начальных и граничных условий, что привносит в описание дополнительные параметры. Поэтому, придавая нашей иллюстрации, применительно к сказанному, более адекватный характер, параметризуем рассматриваемое отношение, выражаемое иррациональным уравнением, и сообщим ему такой вид: √¯|¯x¯¯-¯¯a¯|¯ = x - a, - так что два прежних наших примера соответствуют значениям параметра a = 0 и a = 1. Теперь, когда параметр a не дан, не дана и область определения этого отношения δR = {a; a + 1}. Это как раз тот случай, когда мы имеем, по выражению Наторпа, reine Relation ohne voraus gegebene Relata. Каков же теперь онтологический статус, скажем, числа 2, если квалифицировать его как relatum в этом отношении? Теперь о нем нельзя сказать ни того, что оно суще, ни того, что оно не суще, но только то, что оно сущее или не сущее при том или ином условии, что оно при случае может стать таковым. Что же это за условия и основаниями каких условных высказываний об онтологическом статусе числа 2 они служат? Одно высказывание, например, таково: «если a = 1, то число 2 есть сущее relatum». Другое, сходно с ним, таково: «если a = 2, то число 2 есть сущее relatum». Все же прочие такого рода, отличаясь значением параметра a, в остальном сходны с этим: «если a = 0, то число 2 есть не-сущее relatum». Всё это главные посылки (majores) условных, - точнее, в соответствии с постановкой «прямых» динамических задач в физике, - условно-категорических силлогизмов, в которых, покуда a не дано, число 2 мыслится как аристотелевское «возможно-сущее» (τὸ δυνάμει ὄν), как relatum, могущее modo ponente стать при случае сущим, - в случае же когда modo ponente параметр a дан, число 2, мыслимое как relatum, либо остается не-сущим и как таковое по-прежнему возможно-сущим (при a ≠ 1 и a ≠ 2), либо становится per accidens, привходящим образом, сущим (при a = 1 или a = 2), так что онтологический статус его в этих случаях - «случайно-сущее» (τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ὄν). О нем словами Плотина можно было бы сказать: οὔπω ἐστίν, ἀλλ’ ἔσται («еще не есть, но будет»; Enn. V 2, 1, 2-3). Очевидно теперь, что само отношение, поскольку оно может существовать ohne voraus gegebene Relata, имеет более мощный онтологический статус. В нашем иллюстративном примере онтологический статус самого отношения, когда параметр a не дан, обусловлен, с одной стороны, существованием того множества, для которого это отношение определено, - множества X вещественных чисел - и нечувствителен к вариациям параметра a, определяющего привходящим образом онтологический статус relatorum, в частности числа 2, привходящим же образом существующего или не существующего в области определения δR = {a; a + 1}⊂ X данного отношения: смотря по тому, какое значение случится принять параметру a. С другой стороны, онтологический статус отношения, если оно, как у нас, чисто математическое, лишенное какого-либо реального содержания, несет на себе печать нашей свободы сделать это отношение сущим в качестве предмета рассмотрения. Разумеется, не так обстоит дело с физическими принципами и законами. Не мы, но природа делает сущими те отношения, к которым в конце концов сводится понятие физической реальности. На месте слабой, совершенно невесомой печати нашей свободы, которой отмечены все эти чисто математические relationes rationis, калейдоскопически меняющие друг друга, лежит сильная печать природной необходимости, с которой relationes reales, именуемые принципами и законами, следуют, как мы думаем, идеалу a priori, хотя мы и не в состоянии при нынешнем уровне знаний проследить их априорное происхождение. Поэтому, вслед за Аристотелем и разделяя его веру, мы назвали бы каждое такое реальное отношение, по онтологическому статусу его, «необходимо-сущим» (τὸ ἐξ ἀνάγκης ὄν). Не желая быть излишне категоричными, сдержанно заметим в связи с дальнейшим, что и Эйнштейн, при всей неоднозначности его отношения к проблеме a priori[13], склонен был верить в априорное происхождение уравнений гравитации из «обычного принципа относительности» [45. С. 568]. Его априорную значимость Эйнштейн усматривал в том, что «из всех мыслимых пространств R1, R2 и т.д., движущихся любым образом относительно друг друга, ни одному из них априори не должно отдаваться предпочтение» [47. С. 456]. Сохранить эту априорную значимость при расширении постулата относительности a), а именно при переходе от рассмотрения равномерного и прямолинейного относительного движения «мыслимых пространств» к рассмотрению движения их «любым образом относительно друг друга», удается единственно тогда, когда принцип эквивалентности инерции и гравитации b), в силу которого такое расширение возможно, сам имеет априорную значимость, хотя Эйнштейн, наверное, не согласился бы с последним утверждением, ведь для него этот принцип был сугубо Erfahrungstatsache, опытным фактом: «Общая теория относительности обязана своим существованием прежде всего опытному факту численного равенства инертной и тяжелой массы тел», - писал он [48. С. 110][14]. Обоснование a priori этого опытного факта мог бы дать принцип Маха c), поскольку a) и b) «отнюдь не независимы» от c), если бы уравнения гравитационного поля, дедуцируемые из a) и b), не противоречили, как то думал Эйнштейн, принципу c): они допускают вакуумные решения, показывающие, что «может быть G-поле без какой бы то ни было материи, вопреки постулату Маха» [9. С. 614]. Это обстоятельство, как мы помним, вынудило Эйнштейна отказаться от принципа Маха после тщетных попыток спасти его в космологических редакциях своей теории. Но действительно ли уравнения гравитации противоречат принципу Маха, который должен a priori обосновывать их? Может ли «случайно-сущее», каковы решения этих уравнений, зависящие от их параметров (например, от средней плотности вещества во Вселенной), от случайных начальных и граничных условий, мыслимых modo ponente в качестве minorum при уравнениях, войти в противоречие с «необходимо-сущим», каковы сами уравнения и принципы, их обосновывающие? Могут ли случайные vérités de fait, противоположное которым возможно, войти в противоречие с необходимыми vérités de raison, противоположное которым невозможно? Или, быть может, с решениями уравнений гравитации ассоциирован тот привычно-конститутивный смысл понятия «пространства-времени», который, поскольку он вобрал в себя случайность и нековариантность результатов измерения, физически опосредствующего[15] той или иной арифметизации событий, «точек» G-поля, должен быть элиминирован за пределы ноэмы принципа Маха, тогда как априорное ноэматическое ядро этого принципа, удерживающее чисто функциональное (регулятивное) понимание пространства-времени, надлежит напрямую соотнести не с решениями, но именно с уравнениями, поскольку они, дедуцируемые из принципа относительности a) и принципа эквивалентности b), подпадают в сферу того изначального переживания тождества, что придает значение и вес мысленному эксперименту Маха и связанному с ним одноименному принципу c), будучи, таким образом, необходимыми и ковариантными следствиями последнего? И если так, то не был ли отказ Эйнштейна от принципа Маха результатом ложного мнения? Как бы то ни было, концептуальное развитие общей теории относительности, ортодоксальной в подлинном смысле слова, на методически проясненных основаниях, одним из которых был бы принцип Маха, корректно сформулированный, должно исходить из согласного с этим принципом понимания пространства-времени. Это справедливо и в отношении соперничающих с нею альтернативных теорий гравитации. Принцип Маха, не имеющий ничего общего с фактом существования вакуумных решений уравнения Гильберта-Эйнштейна и нисколько не затрагиваемый этим фактом в своем истинностном значении, имеет прямое отношение к пространству-времени как реляционной структуре самого уравнения, «материальная» часть которого абсолютно необходима, в полном соответствии с версией ᴹᵃᶜʰ7, и все решения которого, в том числе и вакуумные, должны мыслиться в модусе возможного как то, что наперед не дано, что «еще не есть, но будет». 4. На подступах к «истинной индукции»: мысленный эксперимент (Gedankenexperiment) и феноменологический метод вариаций Из логико-формальных понятий, служащих явно или неявно остовом для всех контекстов принципа Маха и нуждающихся в первоначальном феноменологическом прояснении, особо выступает, как мы видели, понятие тождества, которому уделено немало внимания и в текстах самого Гуссерля. Эти тексты, ввиду фундаментального значения самого́ понятия, заслуживают са́мого пристального изучения. Специфический интерес настоящей статьи увлекает, далее, наше внимание к конкретной проблеме рефлективного прояснения того, как чисто формальное отношение тождества становится содержательным во взаимосвязи таких относительных понятий, как «движение», «пространство-время», «система отсчета», «инерция», «взаимодействие» - прежде всего «гравитационное взаимодействие», - и других Besonderungen, группируемых вокруг них. Для того чтобы, руководствуясь этим интересом и следуя гуссерлевской рецептуре приведения к ясности, совершенно раскрыть то, каким образом die materialen Besonderungen «вносят вклад в материальное содержание (Sachgehalt) всех определений» [26. S. 98], многовариантно выражающих тематизируемое нами изначальное переживание тождества, нужны усилия, выходящие далеко за пределы настоящей статьи. Ограничиваясь здесь лишь указанием необходимости отследить и феноменологически исследовать множественные пути, на каких достигает своего многовариантного выражения в формулировках так называемого «принципа Маха» то интуитивное тождество, которому главный мысленный эксперимент Маха обязан своей убедительностью, мы в горизонте этого тождества, в горизонте этого наудачу взятого примера для апробации исследовательской методики, тематизируем возможность приобщения мысленного эксперимента как такового, как разновидности внутреннего опыта, к собственно феноменологическому методу, этот опыт определенным образом организующему, и ради пользы дела обсудим затем возможное влияние философии Маха на генезис феноменологического метода вариаций. Вращение ньютонова сосуда с водой относительно «неба неподвижных звезд» и активное вращение последнего относительно сосуда суть для Маха - необходимо это еще раз подчеркнуть - «один и тот же случай» [52. С. 202], хотя бы даже второй опыт был неосуществим и может рассматриваться в воображении разве только как мысленный опыт, как Gedankenexperiment. Проясняющей рефлексии, последовательный характер которой обусловлен обозначенным выше стремлением обратить форму любой предметности без остатка в содержание мышления (а мыслить, напомним, значит мыслить ясно), нельзя будет пренебречь вопросом: такая же это иллюзия, как для Маха какое бы то ни было различение положений дел в этих двух случаях, - различие между «инерцией» и «гравитацией» (эквивалентность которых как раз и утверждает одноименный принцип, лежащий в основе общей теории относительности), между, в конечном счете, «материей» и «геометрией»? Против последнего отождествления нетрудно, казалось бы, привести аргументы: это, прежде всего, существование нетривиальных решений уравнений Гильберта - Эйнштейна в отсутствие материи. Подрывают ли эти аргументы априорное ядро принципа Маха, принцип Маха в какой-то «минимальной» его формулировке? Аргумент, ссылающийся на существование нетривиальных вакуумных решений, как мы видели, бьет в «молоко», а не в «яблоко», и не затрагивает ничего, что в этой импликации «принципы → уравнения общей теории относительности» имеет значение a priori. С другой стороны, казалось бы, остается возможность отвести этот аргумент с меньшими потерями, не порывая с привычным, конститутивным пониманием пространства-времени, так как в силу принципа эквивалентности гравитационное поле может эффективно порождаться или уничтожаться переходами между взаимно ускоренными системами отсчета независимо от того, существует или нет какой-нибудь материальный источник его. В подобных ситуациях дело с гравитационным полем обстоит, очевидно, совершенно иначе, чем в тех, что образуют контекст принципа Маха. Ведь, например, хотя бы в одной из двух систем отсчета, которые вращаются друг относительно друга, обязательно будет иметь место для любого наблюдателя «эффект неевклидовости» обычного трехмерного пространства как чистый эффект специальной теории относительности: он обусловлен - даже в отсутствие масс - лоренцевским сокращением длины, как это отмечал еще Эйнштейн (см., например, его «Геометрию и опыт» [31. С. 85]). Нетривиальность решений уравнений Гильберта-Эйнштейна в пустоте, казалось бы, может не иметь к принципу Маха никакого отношения по тем же причинам, что и этот «эффект неевклидовости». Однако обезопасить принцип Маха от «вакуумного» аргумента таким способом не удается: это ложный путь, «путь мнения». οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαμῆι εἶναι μὴ ἐόντα· ἀλλὰ σὺ τῆσδ’ ἀφ’ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα…[16] (Parm. de natura, fr. 7, 1-2) Ex nihilo nil fit: превратить нулевой тензор кривизны четырехмерного пространства-времени, тензор Римана-Кристоффеля, в ненулевой, переходя от описания пространственно-временно́й геометрии в одной системе отсчета к описанию ее в другой системе, произвольным образом движущейся (в частности вращающейся) относительно первой, - это, как хорошо известно, невозможно ни при каких обстоятельствах ввиду однородности тензорного закона преобразования и обратимости определяющего указанный переход четырехмерного преобразования координат. Трехмерное же евклидово пространство, вложенное в псевдоевклидово четырехмерное пространство-время Минковского, в результате такого координатного преобразования действительно может стать неевклидовым (в том же плоском пространстве-времени), что многими авторами, вслед за Эйнштейном, трактуется как особый случай гравитационного поля (К. Мёллер [54. С. 182-184], М.-А. Тоннела [55. С. 302-313], Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц [56. С. 329-330]). Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков по этому поводу пишут: «Пространство 3-мерной неинерциальной системы получается искривленным сечением 4-мерного пространства-времени. Неудивительно, что геометрия этого искривленного сечения неевклидова» [57. С. 19]. Поэтому, хотя гравитационные силы производят тот же эффект, что и силы инерции, важно отличать такие особые случаи гравитационного поля, как, например, «центробежное» или «кориолисово» во вращающихся системах отсчета, от «истинных» гравитационных полей (по обозначению Ю.Б. Румера и М.С. Рывкина [58. С. 183-187]), которые нельзя устранить подходящим преобразованием координат. Г. Мак-Витти совершенно справедливо заключает: «Общая теория относительности, таким образом, представляет собой нечто большее, чем использование ускоренных координатных систем; эта теория предусматривает связь с полями тяготения посредством неравного нулю тензора Риччи, и ускореннные системы появляются как второстепенная черта этой связи» [59. С. 127]. В чем же находит свое основание это «нечто большее», если никоим образом не в принципе эквивалентности, утверждающем возможность эффективно порождать или уничтожать гравитационные поля переходами между системами, ускоренно движущимися друг относительно друга? Что может быть основанием для этого, как не принцип Маха в такой форме, связанной с «истинными» полями тяготения, в какой он, внутренне срастаясь с реляционной концепцией пространства-времени, неуязвим для вакуумного аргумента? «Фиктивное» же гравитационное поле, такое именно, какое можно искусственно породить или уничтожить координатным преобразованием, не представляет никакого интереса в контексте принципа Маха. Осознав на путях феноменологического прояснения необходимость принципа Маха для общей теории относительности, поняв мотивы отказа Эйнштейна и его последователей от него, установив, что непосредственно он должен быть соотнесен с фундаментальной структурой уравнений теории, но не с второстепенной структурой их решений, предполагающей конститутивное понимание пространства-времени и допускающей возможность интерпретаций ее, как будто идущих вразрез со смыслом самого принципа (как случается и каким-то значениям слова мнимо противоречить его смыслу, а следовательно, фактически, и каким-то другим его значениям), нам стоило бы теперь приглядеться внимательнее к исследованиям, знаменующим возрождение интереса к этому принципу, свидетельством чего стали конференция в Тюбингене (1993) и изданный по ее материалам сборник статей [27], ранее уже упоминавшийся нами. «Ренессанс» принципа Маха ознаменован, прежде всего, работами Дж. Барбура и Б. Бертотти, доказывающими, что общая теория относительности является вполне (perfectly) махистской теорией - настолько, по выражению Барбура, «насколько в силах сформулировать такую кто-либо из смертных» [60. P. 229]. Разделяя с А. Пуанкаре то убеждение Маха, что любое динамическое описание должно принимать во внимание всю Вселенную, Барбур называет махистской такую теорию, в которой, как он выводит это из анализа Пуанкаре маховских интуиций, «динамическая эволюция Вселенной в целом может быть однозначно предсказана на основе чисто относительных начальных данных», так что Вселенная, рассматриваемая в соответствии с принципом Маха не иначе как целое, подчинена в такой теории чисто реляционной динамике [Ibid. P. 220]. Под стать этим интуициям в махистской геометродинамике Барбура-Бертотти, основанной на общефилософском принципе наблюдаемости, вводится, во-первых, относительное, или внутреннее, конфигурационное пространство Вселенной, мыслимое как суперпространство [94], точки которого изображают внутренне отличные друг от друга 3-геометрии; во-вторых, это пространство получает четырехмерное расширение, дополняясь совершенно неоднородным, репараметризуемым без изменения динамики Вселенной, «времениподобным» пространством, реализующим идею последовательности 3-геометрий, которое, не будучи внешним временем, являет собой, тем не менее, согласный с принципом наблюдаемости аналог Ньютонова абсолютного времени. Барбур полагает, что не всегда удачные характеристики Эйнштейном того, что он назвал принципом Маха, стали источником разноголосицы вокруг формулировки этого принципа, тогда как сам Мах недвусмысленно желал только одного: объяснить феномен инерции в терминах относительных величин и получить наблюдаемые следствия такого объяснения, выходящие за рамки ньютоновской механики. Согласно с этой основной - по сути, мировоззренческой - интенцией вывести из игры Ньютоновы абсолютное пространство и абсолютное время, требования принципов Маха сводятся (в пару к обыкновенно обсуждаемому Барбур извлекает из маховской критики Ньютона еще один, «Второй принцип Маха»), во-первых, к устранению из геометродинамики Барбура - Бертотти нереляционных степеней свободы, связанных с движением центра масс и общим вращением Вселенной, а во-вторых - к запрету на использование здесь, в том, что Барбур и Бертотти называют «протофизикой», единого внешнего времени. Существование нереляционных степеней свободы приводило бы к неоднозначности динамики в целом, основанной на чисто относительных начальных данных, поэтому «имплементацией» принципов Маха разрешается проблема недостаточности таких начальных данных для предсказания будущего поведения системы, а именно Вселенной в целом, что в частном случае, когда угловой момент системы относительно ее центра масс и полный импульс ее строго равны нулю, позволяет в точности воссоздать обычную ньютоновскую динамику с характерной для нее предсказуемостью. При этом значение полной энергии системы так же должно быть строго фиксированным - таково необходимое условие однозначности реляционной динамики, ассоциированное со Вторым принципом Маха, налагающим запрет на использование внешнего времени в ее формулировке. В общей теории относительности, как показывают Барбур и Бертотти [61], можно удовлетворить обоим принципам, если надлежащим образом, используя введенное этими авторами понятие внутренней производной, записать гильбертово действие как функционал, зависящий от динамических историй 3-геометрий в расширенном суперпространстве и притом обладающий оговоренным выше свойством репараметризационной инвариантности (для этого соответствующий лагранжиан теории должен быть однородной функцией первой степени по внутренней производной, подобно тому, каков он относительно временно́й производной метрического тензора трехмерного риманова пространства, то есть относительно скоростей изменения его компонентов, в форме гильбертова действия, данной впервые Р. Байерлейном, Д. Шарпом и Дж. Уилером [62]). Махистский характер общей теории относительности в такой формулировке ее достаточно прозрачен, полагает Барбур. Надлежащим образом определенную на основе понятия внутренней производной функцию Лагранжа можно трактовать как метрическую функцию, порождающую в относительном (внутреннем) конфигурационном пространстве финслерову метрику, которая в свой черед индуцирует известным способом риманову метрику обычного пространства-времени; таким образом, утверждает Барбур, «внутренняя производная определяется на уровне динамики, который логически предшествует (logically prior to; курсив Барбура. - А. Т.) появлению пространства-времени» [60. P. 226][17]. Этот способ построения четырехмерного метрического тензора Римана предполагает «послойное» решение дифференциальных уравнений в частных производных задачи для «тонкослойного сэндвича» с последовательно определяемыми таким образом в пространственных его слоях векторными полями локально псевдоортогональных «временны́х» сдвигов, так что, если эта процедура осуществима, конструкция пространства-времени оказывается последовательностью 3-геометрий. Но, как говорится, если бы не «если»: Барбур признает наличие трудностей, связанных с граничными условиями на бесконечности для пространственно некомпактных решений описанной здесь «сэндвич-проблемы». Трудности эти мы не будем здесь обсуждать. Важнее для нас тот вывод Барбура, что проблема границ - это проблема решений уравнений, но не проблема самих уравнений: «Как бы далеко мы ни зашли в исследовании нашего пространства-времени, уравнения тонкослойного сэндвича всегда будут выполняться. По мере нашего продвижения все дальше и дальше мы будем находить все более обширную область, в которой структура пространства-времени может быть понята в совершенно махистской манере». Структура пространства-времени, по Барбуру, - это структура гильбертова действия и вытекающих из принципа действия уравнений общей теории относительности; требования махистской идеологии распространяются именно на эту структуру, на то, что «логически предшествует появлению (appearance) пространства-времени». И эти требования суть: 1) формулировка гильбертова действия как функционала, определенного на всех возможных историях 3-геометрий в относительном (внутреннем) конфигурационном пространстве; 2) глобальная репараметризационная инвариантность действия, которая, когда оно берется в форме Байерлейна-Шарпа-Уилера, обеспечивается a fortiori: оттого уже, что действие в этой форме обладает локальной репараметризационной инвариантностью. Оговорка «provided the thin-sandwich problem can be solved»[18] должна быть отнесена к конъюнкции условий, к меньшей посылке (ad minorem) условно-категорического силлогизма, каковым является, с точки зрения логики, сэндвич-проблема с теми или иными граничными условиями. Невозможность решить сэндвич-проблему в том или ином случае не означает невозможности найти общее, безотносительное к тому или иному случаю, решение ее дифференциальных уравнений, - в числе которых и уравнения нулевого порядка, каковы чисто алгебраические соотношения, так же определяющие необходимую структуру этого решения, - но означает неразрешимость ее как именно граничной задачи. То, что относится к привходящему, нимало не касается главного, того необходимо-сущего, что формируется a priori и, стало быть, так формулируется - безотносительно к этому привходящему. Структура пространства-времени, логически предшествующая его «появлению», и есть это необходимо-сущее (τὸ ἐξ ἀνάγκης ὄν). А та необходимость, что заключена в общей теории относительности, трактующей о структуре пространства-времени Вселенной в целом, аргументирует Барбур, не может быть понята вне идеологии Маха. По тем же соображениям так называемые «антимахистские» решения, как решения привходящим образом свободные от материи, таковы только во мнении так именующих их, но не в сущности. Хотя мы не во всем согласны с Барбуром - например, в том, что нетривиальные «расслоения» (foliations[19]) пространства-времени Минковского на трехмерные пространственноподобные гиперповерхности соответствуют «нетривиальным махистским (sic!) историям 3-геометрий», - мы согласны, тем не менее, с общим его выводом: «Любое решение чистой геометродинамики, то есть любое Риччи-плоское пространство-время, не должно анализироваться как свободная от материи структура, в которой пробные частицы обладают инерцией, или как структура, имеющая озадачивающее сходство с ньютоновским абсолютным пространством и временем, но как динамическая история 3-геометрий. Требования Маха относятся к структуре такой динамической истории, а не к поведению в ней, в этой структуре, пробных частиц». Удивительно, что Барбур делает этот вывод в результате анализа как раз свободной от материи общей теории относительности, то есть чистой геометродинамики, ограничиваясь замечанием в своей статье с Бертотти [61], что в присутствии материи ситуация значительно сложнее и требует особого рассмотрения. Мы также не можем приветствовать изначальное стремление Барбура к «аутентичному» пониманию принципа (или даже принципов) Маха, восходящему к работам самого Маха: принципы укоренены не в трудах тех, чьими именами они по неоспоримому праву называются, но в природе вещей. В главном мысленном эксперименте Маха безусловно заключен принцип, основополагающий принцип симметрии; и первым это осознал Эйнштейн, не видя еще самого принципа. Попытки Эйнштейна прояснить этот принцип - важная веха в его истории; расценивать их, заодно с Барбуром, как источник заблуждений нескольких поколений физиков было бы, на наш взгляд, неправильно. Сказать, что Эйнштейн в своем дискурсе о принципе Маха редко когда совершенно отходил от «ядра маховской мысли» и не раз был близок к нему, может и тот, для кого это ядро невидимый объект. To get this matter straight, высмотреть это «ноэматическое ядро», - задача, как мы думаем, достойная феноменологического исследования, но ограничиваться работами Маха - это совсем не то, что нужно для решения этой задачи. И если нам еще лишь предстоит этот труд феноменологического высматривания и приведения к ясности, то, в виду такой перспективы, сама мысль, что принцип Маха либо неверен, либо не проверяем экспериментально (Н.П. Коноплёва [64]), не только не может быть квалифицирована как окончательный вердикт относительно истинностного значения принципа, но побуждает испытать те методы исследования его, которые предлагает феноменология. Один из ключевых вопросов, нуждающихся в предварительном обсуждении в виду этой цели, - вопрос о том, каковы должны быть условия мысленного эксперимента (должен ли это быть, например, один опыт или множество связанных опытов, должно ли здесь иметь место условие непрерывности, и если да, то как конкретно оно работает) для того, чтобы такой вид экспериментирования можно было рассматривать как часть метода вариаций. И опять история с ее богатством примеров может быть употреблена на пользу нашему обсуждению. Мы можем многому научиться у классиков науки, прибегавших к мысленным опытам, как, например, Ньютон в своем образцовом рассуждении о пушечном ядре, пущенном горизонтально «силою пороха» с вершины горы [65. С. 27]; это сродственное с феноменологическим методом вариаций рассуждение, в котором, как по другому поводу говорит Гуссерль, «в непрерывном наложении (fortlaufende Deckung) совпадает „то же самое“, что теперь может быть высмотрено само по себе (rein für sich)» [6. S. 414], дает по индукции заключить об этом «высматриваемом» общем - силе, к сущности которой следует отнести то, что, «падая» под действием ее, Луна ею же «удерживается на своей орбите». Ведь и Мах, пролагавший новые пути в области методологии естествознания, многое взял в свою теорию мысленного эксперимента из арсенала опытов такого рода, в анализе которых он был весьма искусен, - прежде всего у «мастера» их, Галилея, который, к слову сказать, «во всех своих рассуждениях… руководствовался… принципом непрерывности» [52. С. 116]. Техника мысленного эксперимента, если рассматривать его как часть феноменологического опыта, должна быть развита с использованием инструментария феноменологии как новый органон, важнейшей составляющей которого стала бы истинная индукция - та inductio vera, что еще Ф. Бэкон полагал максимой своего предприятия. Вот и в развитие главной нашей темы, следуя Бэкону и в полном согласии с феноменологической установкой, имело бы смысл, на наш взгляд, рассмотреть в качестве модификации мысленного экспериментирования - модификации, как сказал бы Гуссерль, способа данности в мышлении - перенос упомянутой выше ситуации относительности вращательного движения (единственно значимого для векторных пространств) в квантовую механику. Это позволило бы, как мы ожидаем, уяснить значение относительности картин Шрёдингера и Гейзенберга квантово-механической эволюции в гильбертовом пространстве для конституирования реальности изменения. К мысли о том, что такой взгляд на двойственность картин эволюции может быть обусловлен модификацией принципа Маха, нас склоняют работы В. Шоммерса [66-69], в которых он связывает физическую реальность с импульсно-энергетическим пространством, а обычному пространству-времени усваивает роль «вспомогательного элемента для геометрического описания реальных физических процессов». Последние «проектируются на пространство-время», как того требует утверждаемый автором «принцип иерархического анализа (level-analysis)». Пространственно-временны́е «картины» реальности формируются на основе измерительных процедур, поддерживаемых со стороны реальности процессами взаимодействия, в которых изменяются импульсы и энергии взаимодействующих объектов, так что в конце концов свойства этих объектов детерминированы исключительно взаимодействием. В этом выказывает себя, по мнению Шоммерса, аналогия с принципом Маха: детерминированность свойств объекта взаимодействием его с другими объектами окружающего мира - тот вывод, к которому, в соответствии с принципом Маха, мы приходим и в квантовой механике. И так же, в соответствии с принципом Маха, полагает Шоммерс, в квантовой механике, как и в классической, пространство-время, будучи лишь вспомогательным элементом описания, элиминировано в качестве «активной причины». Здесь уместно будет напомнить, что о новых эффектах, которые дает утверждение принципа Маха в квантовой механике, говорил еще Р. Фейнман в своих лекциях по гравитации [70. С. 132-136]. Он трактовал его в духе дираковских «больших чисел», связывая фундаментальные масштабы длины и времени с влиянием удаленных «туманностей». Феноменологического прояснения ждет и множество других «ситуаций относительности движения»: «дуализм» силы Лоренца и вихревого электрического поля, обусловливающих так называемую электродвижущую силу индукции в опытах с движущимися друг относительно друга неоднородным магнитным полем и проводящим контуром (как и вообще дуализм электрического и магнитного полей в едином электромагнитном поле), «дуализм» материи и геометрии пространства-времени и другие физические «дуальности» и «дуализмы», которые могут быть тематизированы в связи с модификациями главного мысленного эксперимента Маха. Сам Мах придавал фундаментальное значение этим модификациям, заявляя: «Die Grundmethode des Experimentes ist die Methode der Variation» [71. S. 180, 187, 199-200]. Причем эта мысль у Маха произрастает именно из анализа мысленного эксперимента, методику которого он сообщает и эксперименту физическому. Заслуживает отдельного рассмотрения вопрос о влиянии Маха на генезис феноменологического метода вариаций; и, возможно, было бы уместным начать это рассмотрение с единственного письма Гуссерля Маху, датированного 18 июня 1901 года [72. S. 255-258], в котором он, движимый, надо полагать, не только этикетом, признается, что «в своих начинаниях многое почерпнул» из работ мэтра Венской школы позитивизма. Уже в самом начале письма, после слов благодарности Маху за присылку ему нового издания «Механики» и за подробную оценку им его собственных «Логических исследований», Гуссерль пишет: «Меня не покидает убеждение, что существенные разногласия между нами всё же не так глубоки, как казалось на первый взгляд». Критика Гуссерлем восходящей к Маху концепции экономии мышления стала уже хрестоматийной, но, во-первых, под «хрестоматийным глянцем» плохо просматриваются границы этой критики, а во-вторых, говоря о критическом отношении Гуссерля к чему бы то ни было, всегда нужно помнить об эволюции его взглядов. Красные линии для «экономики мышления», проведенные им в первом томе «Логических исследований», четко обозначены и здесь, в письме: «Я ни в коей мере не хочу оспаривать право генетико-психологического и биологического рассмотрения наук; чему я всячески противлюсь, так это тому, чтобы в зависимость от точек зрения психологического генезиса и биологической адаптации ставилось прояснение (Aufklärung) критической теорией познания чисто логического в науке». Заключение же письма будит в памяти лейтмотив теории двух истин: «Учитывая, что чисто логический и практико-логический подходы, как, соответственно, и способы исследования под углом зрения критической теории познания и методологии не чинят каких-либо помех друг другу, я могу теперь сказать, что никакого конфликта между нашими взаимодополняющими (beiderseitigen) исследованиями по существу нет». Итак, Гуссерль не отрицает эвристической ценности метода экономии мышления как составной части «искусства открытия» (ср. ars inventiva Луллия или ars inveniendi Лейбница, на которые он ссылается в первом томе «Логических исследований»), то есть как составной части научной методологии, работающей в «практико-логической» сфере и не вторгающейся в сферу «чисто логической» истины. Гуссерль признает плодотворность этого метода, прежде всего, для математического мышления «в сфере чисто дедуктивной методики», обращая внимание, как и Мах, на символизирующие техники в чистой математике и математическом естествознании, но притом, по размежевании ареалов «двух истин», оговаривая необходимость разделения труда математиков и философов и подчеркивая недостаточность знаково-символических техник для чистой логики, а в позднейших своих работах настойчиво предостерегая от увлечения этими техниками, оперирующими понятиями подобно «фишкам в игре» (букв.: счетным камешкам - Rechensteine) в ущерб созерцанию и подлинному пониманию «того символического по существу метода, который был развит» [26. S. 95]. В присланном Гуссерлю четвертом издании «Механики» (1901) Мах не преминул ответить на выдвинутое в «Логических исследованиях» возражение против экономии мышления, первым изыскав компромиссное разрешение противоречий между ними в духе «двух истин»: «В качестве естествоиспытателя я привык начинать исследование со специального, поддаваться действию этого последнего и отсюда переходить к более общему. Этой привычке я следовал также при исследовании развития физического познания. Я должен был поступить таким образом уже потому, что создание общих теорий для меня задача трудная и вдвойне трудная в области, в которой минимум несомненных общих независимых принципов, из которых можно было бы все вывести, не дан, а должен лишь быть найден. Такое предприятие скорее могло бы обещать успех, если исходить из математики. Так я обратил, поэтому, свое внимание на отдельные явления: приспособление мыслей к фактам, приспособление мыслей друг к другу, экономию мышления, сравнение, мысленный эксперимент, постоянство и непрерывность мышления и т.д. При этом было для меня полезно и действовало отрезвляющим образом то, что я рассматривал простое мышление, а также и всю науку, как явление биологическое, органическое, а логическое мышление, как идеальный предельный случай. Что можно начать исследование с обоих концов, я ни на один миг оспаривать не буду» [52. С. 420-421]. «Приспособление мыслей к фактам, приспособление мыслей друг к другу, экономия мышления, сравнение, мысленный эксперимент, постоянство и непрерывность мышления» - всё это, на наш взгляд, допускает транспозицию в область феноменологии (даже и экономия мышления!) при изменении установки с естественной на рефлективную, замещении фактов «действительности» фактами сознания, феноменологическом расширении понятия опыта и включении мысленного эксперимента в его объем, при заключении в скобки естественного мира и соответствующей, как говорил Гуссерль, «перемене знака». Во второй книге «Идей», рассуждая о переходе от солипсического опыта к опыту интерсубъективному и выявляя особую роль собственной телесности человека в этом переходе, принадлежащей, как и всякая вещь его опыта, к его окружению, Гуссерль указывает на «солипсический мысленный эксперимент» как на источник ясности в этом вопросе - ясности, обретаемой единственно в результате феноменологического a posteriori и не могущей быть достигнутой a priori в русле «сущностной необходимости» [73. S. 81]. Так уж далеки мы будем от истины, если скажем, что вся феноменология субъективности есть своего рода мысленный эксперимент, производимый каждым феноменологом над самим собой? Вопрос о том, что Гуссерль мог «почерпнуть» (haben geschöpft) в своих начинаниях из философии Маха и его единомышленников, уже поднимался и исследовался в литературе. Д. Синха совершенно верно, на наш взгляд, подмечает: «…Позитивизм Маха уже несет на себе проблески феноменологического мышления. Чистая дескрипция данного как единственный метод приобретения знаний, а также намерение сделать философию „строгой наукой“, что в свое время было воспринято и Гуссерлем, перекликаются с лейтмотивами эмпириокритического позитивизма в целом» [74. P. 569]. Он ссылается на § 56 Гуссерлева «Кризиса европейских наук», где позитивистский эмпиризм Авенариуса и Шуппе характеризуется автором как «попытка провести существенно определяемую английским эмпиризмом трансцендентальную философию» [75. С. 260-261]. На сближение позднего Гуссерля с тем Махом, от которого он так дистанцировался в первом томе «Логических исследований», указывает А. Берг: «Гуссерлева „генетическая феноменология“ может быть истолкована как пересмотр ранней его критики маховской экономии мышления» [76. P. 202]. Вспомним, между прочим, и это высказывание Гуссерля: «Подлинные позитивисты - это мы» («Идеи I», § 20), которое, пожалуй, едва ли может быть верно понято вне его контекста. Особенно сильное воздействие оказали на Гуссерля, по его собственным словам, те гносеологические аберрации и ложные толкования (erkenntnistheoretischen Mißdeutungen) в работах Маха, которые Мах, по вере своей, вменил себе долгом положить в основу своих исследований [77. S. 206]. Возвышение Махом мысленного опыта над опытом действительным - шаг вперед в развитии научной методологии, но недостаточно радикальный для Гуссерля. В пространстве возможностей, имеющих в абстракции от их фактических воплощений внеисторическое, вневременно́е значение, это шаг от Фрэнсиса Бэкона к Роджеру Бэкону, утверждавшему авторитет внутреннего опыта, который, в отличие от внешнего опыта, не получил должной научной разработки. В науке, однако, нет упущенных возможностей. Феноменологический метод открывает широкие перспективы научной разработки внутреннего опыта, и если маховскую теорию мысленного эксперимента рассматривать как один из ранних этапов ее, то было бы нерациональным, что не похоже на Гуссерля, не использовать те наития, которыми так богата эта теория. Достаточно прочитать главу о мысленном эксперименте в Маховом «Познании и заблуждении» и главу об извлечении (Gewinnung) чистых всеобщностей методом сущностного узрения в «Опыте и суждении» Гуссерля, чтобы удостовериться в том, как порою близко пролегают пути двух мыслителей и сколь солидарно, хотя каждый по-своему, трактуют они из общего источника общую тему - прояснение мысленно оформленного содержания опыта путем мысленной вариации фактов: «Klärung des gedanklich geformten Inhalts der Erfahrungen durch Variation der Tatsachen in Gedanken» (курсив Маха. - А.Т.) [71. S. 185]. И тот и другой, поскольку в обоих случаях речь идет о методе, держатся в трактовке этой темы рефлективно-методической установки, чем сглаживается, а может быть, даже и вовсе нивелируется, то различие установок, какое в других случаях определяет исследовательские позиции естествоиспытателя и феноменолога как таковые. Проблески феноменологического мышления видны и в маховском определении общей задачи науки, «фокус» которого помещается скорее на стороне возможного, чем на стороне действительного, - определении, предустанавливающем в понятии мысленного опыта, в замещение опыта действительного, область применения феноменологического метода вариаций, где при чистых сущностях, утверждает Гуссерль [36. S. 151], возможность эквивалентна действительности (freilich ist bei reinen Wesen Möglichkeit und Wirklichkeit äquivalent); это маховское определение задачи науки, перенесенное с логически ущербной почвы экономии и облегчения опыта на более глубокое основание феноменологического анализа сущностей с сохранением за этим анализом акцентируемой Махом коренной функции науки, именно «Erfahrung zu ersetzen», «замещать опыт», то есть при известной радикализации, какая требуется феноменологией, могло быть воспринято и Гуссерлем - помимо того, конечно, что относилось им на счет ложных толкований: «Задача всей и всякой науки - замещение опыта или экономия его воспроизведением и предвосхищением (Vorbildung) фактов в наших мыслях. Опыт, воспроизведенный в наших мыслях, легче под рукой, чем действительный опыт, и в некоторых отношениях может этот последний заменить» [52. С. 409]. Замещение опыта, как оно понимается в феноменологии, а именно замена в результате эпохе́ «всякого осуществления внешнего опыта опытом этого опыта в качестве имманентного переживания» [78. S. 246], есть задача более амбициозная, чем та, о которой говорит Мах. Даже в пункте максимального сближения двух мыслителей, в математике, «в сфере чисто дедуктивной методики», где Гуссерль признает законное право экономии мышления, продуцирующего аксиоматики и знаково-символические техники, где, как старается показать Мах, «впервые развился метод физического и мысленного эксперимента» и откуда уже «был перенесен в область естественных наук» [79. С. 206], Мах не видит тех перспектив развития эвристического потенциала высказанной им мысли об отсутствии «великой мнимой пропасти между экспериментом и дедукцией» [Там же], какие открываются в феноменологии. Гуссерль упрекает Маха в том, что в этом пункте, по выражению К. Дюзинга, его старания сводятся к одним только начинаниям [80. S. 240]. Гуссерлю вышло идти дальше этих начинаний. Благодатной почвой для идей Маха становится феноменология. Амбициозная, «бесконечная» задача феноменологии понимается Гуссерлем как двуединая: с одной стороны, как задача «отображения универсума всего, что ни есть a priori, в его трансцендентальной самоотнесенности и тем самым в его самодостаточности и полной методической ясности», с другой - как «задача (Funktion) метода достижения универсальной и притом полностью обоснованной науки об эмпирической фактичности» [81. S. 298]. Эта двуединая задача феноменологии соответствует диадическому единству ее как первой и второй философии: во-первых, в идее своей она есть «универсальная эйдетическая онтология», во-вторых - «наука об универсуме фактов» [Ibid. Ср.: 82. P. 702]. Так же двуедина задача и того ответвления феноменологии, которое Гуссерль называет феноменологической теорией природы. В письме к В. Дильтею от 5/6 июля 1911 года он определяет эту задачу так: «…Подвергнуть сущностному исследованию сознание, конституирующее природу, во всех процессах образования им форм и во всех его корреляциях, - насколько это позволит окончательно прояснить все принципы, которым бытие, как бытие природы, подлежит a priori, и даст возможность найти решение всех проблем, что имеют в этой сфере отношение к корреляциям бытия и сознания» [72. S. 49]. Как часть этой задачи, предмет особой заботы Гуссерля - «априорная методология возможного познания самоёй природы в истинах самих по себе» (apriorische Methodologie einer möglichen Erkenntnis der Natur an sich, in Wahrheiten an sich), каковая есть не что иное, как «априорная наука о возможности математического естествознания, или наука о методе научного определения природы из данностей опыта» [34. S. 283]. Для «науки о методе», обеспечивающей методическим оснащением феноменологическую теорию природы, принципиально и стратегически важна инициатива Маха положить в основу методологии физического эксперимента методику эксперимента мысленного: как мысленный эксперимент у Маха в методологическом плане имеет парадигмальное значение для эксперимента физического, так и феноменологическое a posteriori должно обрести это значение парадигмы для индуктивного a posteriori нынешней физической методологии. Но - нам мерещится здесь тайное тайных кантовской мысли об общем корне чувственности и рассудка - феноменологическое a posteriori, поскольку оно феноменологическое, исходящее из «внутренне переживаемого или внутренне созерцаемого… в простом качестве экземплярной подосновы для идеаций», должно иметь силу синтетического a priori [83. S. 412]. Феноменология, мыслившаяся Гуссерлем как «исполнение кантовских интенций», есть в идее своей «априорная наука о возможном чистом сознании вообще» (eine apriorische Wissenschaft vom möglichen reinen Bewusstsein überhaupt [84. S. 66-117]). Она «конструирует a priori» - стало быть, действует a priori синтетически - «в корреляции с Apriori конститутивным»[20]. Есть у Фихте в «Первом введении в наукоучение» одно место, из которого Гуссерль выписывает - вероятно, для своих лекций по критической истории идей - следующий пассаж: «Das Apriori und das Aposteriori ist für einen vollständigen Idealismus gar nicht zweierlei, sondern ganz einerlei; es wird nur von zwei Seiten betrachtet und ist lediglich durch die Art unterschieden, wie man dazu kommt» [1. S. 411]. Мы позволим себе процитировать из Фихте этот пассаж в объемлющем его контексте, так как здесь, по-видимому, автор наукоучения на новый лад толкует мысль об общем корне рассудка и чувственности, питающем рационалистическую и эмпирическую философию, и на месте совершенного идеализма здесь, в гуссерлевском прочтении, вполне могла бы быть феноменология: «Поскольку… окончательные результаты идеализма как таковые рассматриваются как следствия рассуждения, они суть a priori в человеческом разуме; а поскольку то же самое в случае, если рассуждение и опыт действительно совпадут, рассматривается как данное в опыте, оно называется a posteriori. A priori и a posteriori для совершенного идеализма - отнюдь не что-либо различное, а совершенно одно и то же; только оно рассматривается с двух сторон и различается лишь способом, каким до него доходят. Философия предваряет весь опыт, мыслит его себе как необходимый, и постольку она в сравнении с действительным опытом априорна. Число апостериорно постольку, поскольку оно рассматривается как данное; то же число априорно постольку, поскольку оно выводится из множителей как их произведение. Кто думает об этом иначе, тот сам не знает, что он говорит» [86. С. 473-474]. Примечательно, что Фихте для пояснения своей мысли приводит пример из области математики. Для философов-рационалистов математика традиционно была вдохновляющим примером. Но после открытия Махом того, что математика есть эмпирическая и даже экспериментальная наука, в которой априорные, аподиктические результаты достигаются индуктивно-интуитивным и дедуктивно-интуитивным методом, содержащим в определенной части интуитивной своей составляющей возможность «отпадения» его в мир внешнего опыта и, как следствие, перенесения в область естественных наук, ее почитают за образец в своем стремлении к строгости и философы-эмпирики позитивистского толка. Тем более так должно было быть для Гуссерля, рационалиста и «позитивиста» в одном лице. Гуссерль, молодым человеком защитивший диссертацию по вариационному исчислению и посвятивший годы философии арифметики, не мог пройти мимо подмеченного Фихте обстоятельства, что в математике a posteriori имеет силу a priori. Это обстоятельство с очевидностью выступает во всех математических доказательствах «по индукции». Последние истоки этой, как и вообще всякой очевидности, той или иной степени или ступени, усматриваются, по убеждению Гуссерля, благодаря феноменологии, и только благодаря ей. В ходе эволюции его взглядов зреет в нем и то убеждение, что «во всяком опыте заключена индукция, составляющая его сущность» [87. S. 138]. Очевидно, что индукция, заключенная в опыте «аподиктической очевидности», соотносится Гуссерлем с феноменологическим восприятием [88. S. 69-71], должна по меньшей мере не уступать математической индукции в способности демонстрировать a priori путем a posteriori: в той мере, в какой модус изначально обосновывающей, конститутивной познавательной деятельности («применение силы») не уступает соответствующему модусу логического вывода («демонстрации силы»). К этой «изначальной индукции» сводится в конце концов «по-настоящему вразумительное объяснение» индукции в обычном смысле [6. S. 28]. Маховский типовой метод (Grundmethode) произведения мысленного эксперимента, метод вариаций, феноменологически модифицированный и аккомодированный к более далекой цели, чем проблеск догадки (Vermutung), еще нуждающейся, согласно Маху, в физическом эксперименте для проверки своей адекватности реальному положению дел, метод, сфокусированный исключительно на тождественную сущность представляемого объекта помимо всех изменчивых модусов переживания его и предназначенный не менее чем к адекватному имманентному сущностному узрению в нем (Wesenserschauung) априорных и идеальных конституентов его реальности - такому узрению, что не только не нуждается в каком-либо эмпирическом сознании своей адекватности, в какой-либо психологической или естественнонаучной «апперцепции», но даже в корне исключает их [83. S. 456], - метод этот должен быть, по замыслу Гуссерля, разработкой изначальной индукции, однозначно и предельно адекватно антиципирующей путем a posteriori, от данного единичного примера, конституированную ею a priori ноэматически-онтическую структуру объекта: то ноэматическое сущностное, стало быть реальное, положение дел (Wesensbestand), в котором единичное τόδε τι есть сразу и общее τὸ τί ἦν εἶναι. Не исключено, что именно в силовом поле идей Маха взгляды Гуссерля на индукцию эволюционировали от отрицания в первом томе «Идей» индуктивной природы схватывания сущности к утверждению этого в более поздних текстах, как, например, в этом, относящемся к кругу анализов пассивных и активных синтезов, тексте - в непосредственной связи с методом вариаций: «Индуктивное схватывание эйдоса происходит на основе „свободной экземплификации“, в виду горизонта единичностей, произвольно воображаемых и в этом сознании „произвольности“ мыслимых. Эти единичности связаны смысловой тождественностью и, перекрываясь в процессе сравнения, изобличают [тем самым общую им] сущность» [89. S. 403]. Вполне возможно, что индукция и есть тот высший пункт, в котором сходятся маховский метод мысленного эксперимента и гуссерлевский метод свободных вариаций. Хотя нигде в «Познании и заблуждении» Мах не говорит об индукции в связи с мысленным экспериментом, посвящая этим методам две отдельные главы, а у Гуссерля днем с огнем не сыщешь термина «Gedankenexperiment» в контекстах феноменологических ментальных процедур (впрочем, как мы видели, нельзя говорить и о полном его отсутствии в этих контекстах), нам, однако, в свете маховского тезиса «Die Grundmethode des Experimentes ist die Methode der Variation» кажется несомненным сходство методологий двух мыслителей - конечно, далеко не во всех отношениях, но поверх различий в каких-то весьма существенных: как бывает, когда сходство не просто сходство, но - сродство. Такое генетически обусловленное сходство проглядывается, скажем, в принципе непрерывности ментальных процессов вариации, провозглашаемом обоими мыслителями и задающем для той и другой методологии горизонт, в котором, как это проявилось «в модусе желаемого» у Гуссерля, но осталось скрытым у Маха, индукция может, в меру проведения этого методического принципа как средства к достижению сущностной ее цели, обрести силу аподейксиса. Что мысленный эксперимент и индукция должны быть темами одной пьесы, хотя Махом они трактуются по отдельности, было замечено не одним исследователем - в частности Р. Соренсеном [90] и М. Буззони [91]. Что в основе индукции, даже эмпирической, лежит a priori закона причинности (которое у Канта, к слову сказать, в силу «непрерывного действия причинности» тождественно a priori закона непрерывности, ответственного, в феноменологии уже, за непрерывность ментальных вариаций в сфере возможного), - это ведомо и самому Маху благодаря кантианцу Э. Апельту, которому он, Мах, чувствует себя «весьма многим обязанным в деле создания основ рациональной естественнонаучной методики» [79. С. 278. Ср.: с. 31]. «Однако он, - пишет Мах об Апельте, - сам признает, что знание это не дает нам никаких указаний относительно применения его в особых случаях, и поэтому не оказывает нам никакой помощи и в такой же мере может ввести нас в заблуждение, как указывать правильный путь» [Там же. С. 302]. В своей «Теории индукции» Апельт не идет дальше констатации того факта, что эмпирическая индукция, суть которой «в суммировании сходных случаев», недостаточна для достоверного вывода: «Из такого суммирования с математической вероятностью следует только то, что в основе сходных случаев лежит какая-то закономерность, но этим еще не отыскан сам закон (Regel)» [92. S. 44]. Гуссерль идет дальше. И то, что метод вариаций был в конечном итоге увенчан им венцом индукции-принцессы, индукции изначальной, «по-настоящему доказательной» (wirklich bewährbare) в отличие от порицаемой с этой стороны за оплошности, но знающей свое изначальное достоинство индукции-золушки, привыклой труженицы на ниве науки и, как повелось со времен лорда-канцлера, хранителя королевской печати, бессменной помощницы в «охоте Пана», вселяет в нас надежду на удачный финал всей пьесы. Ибо было бы удачей, как Золушке стать принцессой, если бы «истинная теория индукции», «над которой так много и так тщетно трудились» [6. S. 28], была обретена нами однажды и на законных основаниях воплотилась в практический метод науки. По всем признакам и знакам, на которые мы не преминули здесь указать, теория эта должна аккумулировать в себе, с одной стороны, потенциал феноменологического метода вариаций, структурная близость которого методу индукции обсуждается, например, в диссертации Н. Куюнджича [93], с другой - потенциал метода мысленного эксперимента, и с этой стороны особую ценность может представлять вклад исследований, согласных с тем тезисом этого автора, что «весомым фактором при изучении феномена мысленного эксперимента может оказаться понимание техники варьирования» [Ibid. P. 175]. Феноменологический метод приведения к ясности может и должен найти верные ориентиры в том, что Гуссерль в пору работы над «Кризисом» называл «историческим осмыслением» (historische Besinnung). В таком осмыслении и метод вариаций получает историческое измерение и, будучи делом научного (языкового) сообщества, поднимается естественным образом на уровень интерсубъективности: мы почерпаем первообразы и какие-то их варианты для дальнейшего «открытого процесса варьирования» в сфере исторической фактичности.Об авторах
Александр Александрович Тютюнников
Частное образовательное учреждение «Другая школа»; Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ «Мастерград»
Email: atutun@list.ru
кандидат философских наук
Российская Федерация, 614002, Пермь, ул. Николая Островского, 72А; Российская Федерация, 614031, Пермь, ул. Костычева, 16Дмитрий Александрович Терещенко
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
Email: dima91ter@yandex.ru
кандидат физико-математических наук, научный сотрудник
Российская Федерация, 141570, Московская область, г. Солнечногорск, р. п. Менделеево, промзона ФГУП ВНИИФТРИ, к. 11Вячеслав Федорович Панов
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: panov@psu.ru
доктор физико-математических наук, профессор
Российская Федерация, 614068, Пермь, ул. Букирева, 15Дополнительные файлы