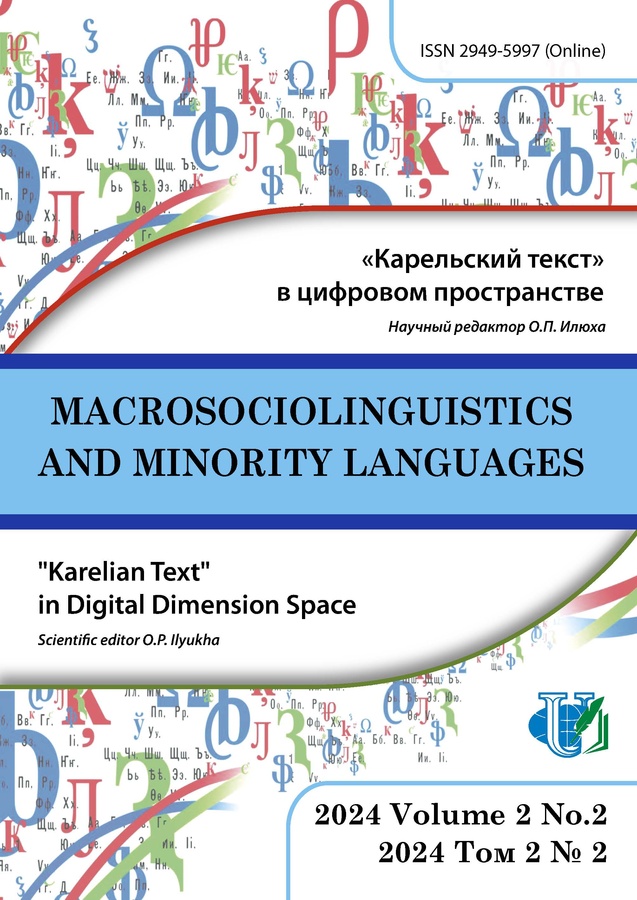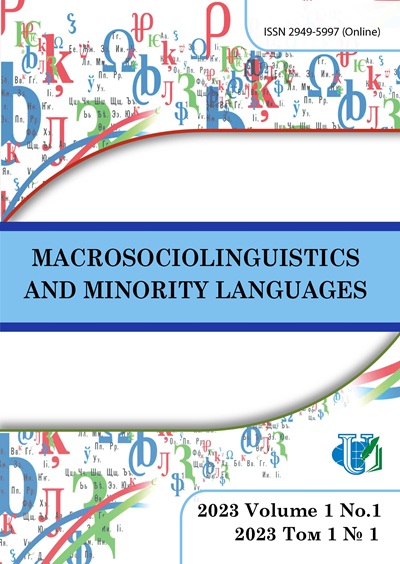The Language Shift and Revitalization Practices in Contemporary Kashubia
- Authors: Vasiukov O.D.1,2
-
Affiliations:
- European university at Saint Petersburg
- Foundation for Siberian Cultures
- Issue: Vol 1, No 1 (2023)
- Pages: 43-75
- Section: CALL FOR YOUNG RESEARCHES
- URL: https://macrosociolingusictics.ru/MML/article/view/46460
- DOI: https://doi.org/10.22363/2949-5997-2023-1-1-43-75
- EDN: https://elibrary.ru/SFPPVU
- ID: 46460
Cite item
Full Text
Abstract
The paper is focused on the modern language situation in Kashubia, ethno-cultural region in the Northern Poland. In 2005 the Kashubians have been recognized as the regional linguistic community in Poland. Based on the materials of the anthropological field work of recent years, the author will show the experience of the language rights’ realization in Kashubia. The study explores the specificity of functioning of Kashubian as regional language as well as the impact of the legal recognition on the intensity of language shift in the community. The author shows how the introduction of the Kashubian language into the system of administration and education has influenced the process of its literary norm codification. The paper highlights the reactions among speech community, caused by Kashubian literary standard, promoted by ethnic activists. The readers will learn how the status of regional language has positively influenced the social prestige of Kashubian in recent years, but failed to stop its gradual displacement by Polish language. The materials of the interviews, collected with native speakers, allow us to conclude that the very idea of a regional linguistic community is greatly criticized in the ethnic group today as an insufficient tool for protecting the cultural rights of the Kashubians.
Full Text
1. Введение Кашубы - западнославянская миноритарная этноязыковая группа, компактно проживающая на севере современной Польши. Сообщество обладает уникальным юридическим статусом, являясь с 2005 года единственным в стране языковым региональным сообществом. Языковая специфика автохтонного населения Кашубии сегодня определяет перечень охраняемых государством культурных прав, что происходит на фоне интенсивного языкового сдвига среди кашубов и повсеместного перехода членов группы на польский. Сегодня в нашем распоряжении уже имеется опыт полутра десятилетий функционирования кашубского в статусе регионального языка и почти тридцати лет последовательной практики языковой кодификации, предпринимаемой местными активистами. Это позволяет нам подвести первые итоги реализации языковых прав кашубов, а также зафиксировать и описать реакцию членов речевого сообщества на программы сохранения и поддержки этнического языка. Этническая идентичность и языковые процессы среди кашубов, коренного славянского населения Померании, давно привлекают внимание исследователей. Первые профессиональные этнографические и лингвистические описания кашубов появляются уже к сер. XIX (Szultka 1992: 12). Работы того времени представляли собой удивительный сплав научного и политического дискурса, отражающего конкуренцию польского и немецкого национальных движений за включение местного населения в свой состав. Большинство польских ученых конца XIX - начала ХХ в. достаточно болезненно реагировали на возможность признания кашубов отдельным народом, а кашубского - отдельным славянским языком. Стратегическая заинтересованность Польши в Поморье и многовековая борьба с немцами за выход к Балтийскому морю содействовали стремлению польских политических и научных элит изобразить кашубов в качестве исконно польского населения региона. К 20-30-м гг. ХХ в. в польской школе этнографии сложились достаточно четкие этнолингвистические классификации населения страны. Языковая близость кашубов и поляков (реальная или воображаемая) были главным аргументов в спорах политиков и ученых касательно определения кашубов и демонстрировалась как доказательство польской национальной идентичности местного населения. Так, в 1929 г. классик польской этнографии Адам Фишер писал: «Кашубы, верные своему языку, спасли для Польши доступ к собственному морю. Отсюда происходит легко понятная заинтересованность, с которой немцы оспаривают польскость этого населения» (Fischer 1929: 11). После Второй мировой войны риторика описания кашубов несколько меняется. Коммунистическая власть наложила негласное табу на то, как и что можно было писать о кашубах. Кашубам отводилась роль этнографической группы поляков с яркой фольклорной и языковой спецификой. Именно в этот период мы получаем качественные диалектологические, лексикографические и грамматические исследования языка местного населения (Sychta 1967; Popowska-Taborska 1980; Treder 1981), что, однако, совпало с началом массового перехода этнической группы на польский язык. После упадка коммунизма появляются первые публикации, в которых можно было свободно писать о палитре этнонациональных и лингвистических идентичностей кашубского населения (Synak 1998; Latoszek 1996; Mordawski 2005). Сегодня в нашем распоряжении имеется определенный корпус качественных социологических, социолингвистических и антропологических исследований, в которых рассматриваются языковые процессы (Dołowy-Rybińska 2010) и этнический активизм (Dołowy 2008; Mazurek 2010; Bukowski 2016) в современной Кашубии. Внимание ученых объясняется присуждением кашубам статуса регионального языкового сообщества. Вместе с тем, у нас до сих пор нет обстоятельных исследований опыта реализации данного правового статуса и обеспечения языковых прав кашубов на практике. Целый ряд вопросов остаются открытыми: влияние статуса регионального языка на стандартизацию кашубского, языковой сдвиг в Кашубии и типы современных носителей кашубского, практики языковой ревитализации и внутригрупповые дискуссии о возможном повышении правового статуса кашубов как этнического меньшинства в стране. Надеемся, наша работа последних лет позволит заполнить эти лакуны и предоставит ценный материал для дальнейшего анализа как повседневных языковых практик кашубов, так и стратегий презентации идентичности среди миноритарных славянских сообществ Центральной Европы. 2. Методология исследования Материал для данной статьи собирался в ходе полевой антропологической работы, которая протекает с 2019 г. на территории компактного расселения этнических кашубов в Поморском воеводстве на севере Польши. В ходе наших экспедиций нам удалось посетить все три исторических субрегиона Кашубии: северную Кашубию или Норды (каш. Nôrdë) (Пуцкий, Вейхеровский повяты[10]), центральную (Картузский, Лемборский повяты и Труймясто), а также южную (Косцежский, Хойницкий повяты). Работа проходила в двух десятках населенных пунктах, среди которых можно выделить как крупные городские центры региона (агломерация Труймясто (Гданьск, Гдыня, Сопот), Слупск), средние по размеру города и центры повятов (Вейхерово, Картузы, Косцежина, Реда, Румя и др.), так и малые города, и поселки, центры гмин[11] (Брусы, Хель, Ястарня, Дземяны, Жуково); а также небольшие села (Тшепово, Кемблово, Дзержонжно и др.). Работа в различных регионах Кашубии была изначальной целью исследования, поскольку нам было важно зафиксировать возможное разнообразие мнений информантов, которые проживают как в урбанизированных центрах, так и глубинке, в этнически гомогенных общинах (например, в гмине Дземяны 97% - этнические кашубы, в гмине Картузы - 91%, в г. Брусы - 82%, в гмине Ястарня - 81%), так и в поселках исторической Кашубии, где коренное население и этнические кашубы сегодня составляют меньшинство (например, г. Прушч-Гданьский - 8%, Слупск - 3,5%). (Mordawski 2018: 48) Основными методами сбора материала являлись глубинное полуструктурированное интервью с этническими кашубами, включая носителей языка и языковых активистов, а также наблюдение за языковыми практиками информантов и изучение языкового ландшафта региона. Исходя из предмета нашего исследования, первоначальными информантами для нас в основном являлись этнические и языковые активисты, которые, будучи непосредственными участниками языкового строительства в Кашубии, отличаются высоким уровнем рефлексии по поводу языковых процессов и лингвистической идентичности в своей этнической группе. Позже, следуя методу «снежного кома», мы постепенно расширяли круг информантов за счет носителей кашубского языка разного типа, не ангажированных в социальный активизм. В качестве теоретической рамки нашего исследования выбрана теория языковой политики и языкового планирования. Прежде всего, мы опираемся на модель языковой политики Бернарда Спольски (2004), который разделяет ее на три составляющих компонента: 1) языковую практику - привычный образец выбора среди нескольких разновидностей, составляющих лингвистический репертуар конкретного речевого сообщества; 2) языковые убеждения или языковую идеологию - убеждения относительно языка и его использования; 3) языковое планирование (language planning) или управление языком (language management) - любые конкретные усилия по изменению или влиянию на языковую практику (Spolsky 2004: 5). Важным теоретическим инструментом для нас является концепция языкового сдвига, описывающая ситуацию отказа общности от использования старого языка и переход на новый, что может сопровождаться длительным периодом двуязычия (Дориан 2012: 382). Антропологическая перспектива настоящего исследования дополнена рядом конструктивистских теорий этничности. Особенное влияние на нас оказали идеи норвежского социального антрополога Фредрика Барта, согласно которому этнические группы могут мыслиться как формы социальной категоризации, главным признаком которой является приписывание идентичности себе и приписывание ее другим (Барт 2006: 15), а также американского социолога Роджерса Брубейкера, утверждающего, что этнос не является «коллективной личностью» с присущей ему единой идентичностью, интересами и стратегиями, но, скорее, результатом определенного политического проекта, конкретного дискурсивного фрейма (Брубейкер 2012: 47). Этим во многом объяснялась наша ставка на языковых активистов в качестве информантов, поскольку именно они являются «антрепренерами», создающими и распространяющими особые этнизирующие фреймы. В структурном плане статья включает в себя три блока, последовательно описывающих численность, расселение, законодательный статус кашубов, а также дилемму этноязыковой идентичности, с которой сталкиваются члены исследуемого сообщества; специфику языкового сдвига в Кашубии, традиционные языковые иерархии в регионе и роль государственной школы в процессе языковой ассимиляции кашубов, а также современные вызовы, стоящие перед активистами языковой ревитализации в Кашубии, и рецепцию членов речевого сообщества на пропагандируемый активистами литературный стандарт кашубского языка. Все фотоматериалы, иллюстрирующие положения текста, сделаны автором в ходе полевой работы. 3. Кашубы как языковое региональное сообщество Польши Вплоть до начала XIX в. в польском политическом и научном дискурсе кашубы описывались преимущественно в качестве этнографической группы поляков, говорящих на одном из самых архаичных диалектов польского языка - кашубском. Традицию научного исследования кашубов можно проследить к сер. XIX в. Именно тогда первые филологи, этнографы и историки заинтересовались культурой автохтонного населения Померании. Первоочередной задачей исследователей этого периода было стремление выяснить, кем же являются кашубы на самом деле: славянизированными немцами, онемечившимися поляками или отдельным западнославянским народом? Вероятно, подобный интерес отображал конкуренцию польского и немецкого национальных движений за коренное население Поморья. Кашубы, будучи сообществом, которое проживало в обширной зоне польско-немецкого культурного контакта, часто сочетали в себе более одной этнической идентичности и владели сразу несколькими языками. К 20-30-м гг. ХХ в. в польской школе этнографии сложились довольно устойчивые этнолигвистические классификации населения страны, в которых возможность признания кашубов отдельным народом, а кашубского - отдельным языком воспринималась достаточно болезненно. Стратегическая заинтересованность Польши в регионе Поморья, дававшему выход в Балтийскому морю, а также языковая близость польского и кашубского (не важно, реальная или воображаемая) были главными аргументами в споре политиков и ученых о классификации кашубов. Первому поколению польских этнографов-систематизаторов (Юзеф Обрембски, Ян Быстронь, Станислав Понятовски и др.), удалось на десятилетия сформировать воображаемый этнический ландшафт и таксономию поляков. Стремясь вписать кашубов в общие классификационные этнические системы Польши, ученые вынуждены были признавать их наибольшую специфичность и максимальную культурную отдаленность в сравнении с другими группами поляков. Пытаясь найти причины хорошей сохранности специфических культурных черт и вернакулярных представлений об этнической особенности кашубов, этнограф Я. Камоцки, объясняет это отсутствием в регионе на протяжении долгого периода значительного слоя интеллигенции, которая в качестве национальных «агитаторов» была бы носителем общепольских идей (Kamocki 1992: 113). Тем не менее, материалы нашей полевой работы показывают как множественную природу этнической идентичности современных кашубов, так и острую внутригрупповую дискуссию, связанную с практиками национального самоопределения. Поскольку данная проблема не имеет прямого отношения к предмету нынешней статьи, лишь отметим, что мы зафиксировали значительный уровень биэтнической идентичности у современных кашубов. Большинство наших информантов считаю себя или поляками и кашубами одновременно, или же поляками с особым региональным языком. «У нас нет чувства кашубской национальности. И несмотря на то, что мы говорим по-кашубски, что это чувство кашубской идентичности очень сильно для меня, мы все равно - поляки. Я не чувствую, чтобы это было моей национальностью. Я не чувствую, чтобы мы были отдельным народом. Мне всегда говорили, что я полька…» (ж., кашубка, 37 л., Гданьск) При этом мы не можем не отметить рост численности людей, которые считают себя представителями отдельного безгосударственного славянского народа в Польше. «Мне больше всего соответствует (odpowiada) слово «народ». Мы народ, а значит имеем все то, что определяет народ. По моему убеждению, это общее происхождение, общая судьба и общие… общие цели на будущее. И, по-моему, у нас все это есть». (м., кашуб, 28 л., Гдыня) Пока заявления таких информантов вызывают неоднозначную реакцию как внутри этнической группы, так и за ее пределами. Однако с уверенностью можно констатировать, в современной Кашубии уже сформировалось общественное движение за признание кашубов этническим меньшинством на законодательном уровне, что подробно рассматривается нами в отдельном исследовании (Васюков 2019: 189-193). Данные наблюдения подтверждаются результатами государственной переписи населения. В качестве отдельной от поляков этнической группы кашубы впервые стали учитываться в 2002 г. Тогда всего 5,1 тыс. человек назвали себя кашубами, при этом 56 тыс. указало кашубский в качестве языка домашнего общения. В 2011 г. усовершенствованно методика переписи, позволявшая респондентам указывать более одной этнической идентичности, обнаружила около 233 тыс. кашубов в стране, из которых 16 тыс. (7% от группы) назвали себя только кашубами, тогда как остальные указали две этничности (в основном, кашуб-поляк или поляк-кашуб) (Narodowy Spis 2015: 33). При этом по оценкам этнографов и социологов, количество этнических кашубов в Польше сегодня превышает более полумиллиона. По оценкам Марека Лятошека, на конец 1980-х гг. в регионе Гданьского Поморья проживало около 0,5 млн кашубов (Latoszek 1996: 12). Исследование Яна Мордавского от 1997-2004 гг., которое включало в себя масштабное анкетирование и анализ послевоенной миграции населения в Кашубии, показывает, насчитало 566 тыс. кашубов, которые в ряде повятов Поморского воеводства должны составлять большинство или заметное меньшинство: в Картузском (83,8%), Пуцком (64,6%), Косцежском (61,4%), Вейхеровском (47,9%), Бытовском (34,9%), Гданьском (21%) (Mordawski 2005: 43). Как видим, переписи населения не видят до половины этнической группы, что может объясняться спецификой польской переписи населения, умышленным сокрытием частью респондентов своего кашубского происхождения, а также отсутствием устойчивой традиции по декларации своей этничности как кашубской. Подавляющее большинство кашубов (98%) проживает в пределах Поморского воеводства (Narodowy Spis 2015: 47) на севере страны. Именно этот регион, наряду с Силезским и Опольским, входит в тройку воеводств страны с наибольшим числом населения, имеющего непольскую или двойную (польская+непольская) этническую идентичность (Narodowy Spis 2015: 45). Кашубы - преимущественно сельское население, лишь 35,4% из них проживает в городах (Narodowy Spis 2015: 50). При этом значительное присутствие кашубов заметно лишь в небольших городках и поселках Кашубии с населением менее 50 тыс. чел.: Картузы (92% из 19 тыс. человек), Косцежина (82% из 23 тыс. человек), Пуцк (71% из 11 тыс. человек), Вейхерово (41% из 49 тыс. человек) (Narodowy Spis 2015: 48). Все информанты, с которыми нам удалось поработать, в том числе и те, кто считает кашубов поляками, идентифицировали идиом своей группы в качестве отдельного языка. Более того, многие информанты крайне болезненно относились к восприятию кашубского языка диалектом или говором польского. Кажется, мы фиксируем достаточно четкий консенсус по этому вопросу в этнической группе: «Для меня очевидно, что это язык, а не диалект… потому что… потому что сообщество, которое говорит на нем, так решило. А что говорит большинство… что ж… это уже дело самого этого большинства». (ж., кашубка, 46 л., Гданьск) Возможно, на подобную лингвистическую идеологию (Silverstein 1979: 193) в сообществе мог повлиять опыт функционирования кашубского в статусе регионального языка Польши. В 2005 г. кашубы были признаны языковым региональным сообществом. Теперь гмины, в которых, согласно переписи населения, количество этнических кашубов превышает 20%, могут признавать кашубский языком-помощником (Ustawa 6.01.2005). Подобный юридический статус позволил выделять финансирование на школьное преподавание языка, делопроизводство и установку двуязычных дорожных указателей на кашубском (Bukowski 2016: 91-93). В свою очередь, законодательное признание кашубского, его внедрение в систему администрации и образования интенсифицировало кодификацию литературной нормы для языка, который десятилетиями функционировал как средство почти исключительно устной коммуникации. Вместе с тем, юридическое признание кашубского и его стандартизация пришлись на период интенсивной языковой ассимиляции, которую переживает этническая группа. Сегодня достаточно трудно оценить реальное количество носителей кашубского языка. Это объясняется как сложностью определения и субъективностью границ «носитель - полуноситель», так противоречивыми данными специальных социолингвистических исследований. Результаты переписи (2011) показывают, что 108 тыс. чел. указало кашубский языком домашнего общения (Narodowy Spis 2015: 70). При этом общие оценки этнографов и социологов сходятся на том, что около 2/3 этнической группы или примерно 300 тыс. чел. сохраняет ту или иную степень владения языком. Согласно предположениям социолингвистов, сегодня кашубским языком может владеть от 80% до 64,5% этнической группы (Dołowy-Rybińska 2010: 52). Как показало масштабное анкетирование Яна Мордавского, проведенное в 2005г., лишь 80,9 тыс. чел. говорят по-кашубски ежедневно (14,2% от этнической группы) и еще 41 тыс. (7,3%) говорят часто. Большая же часть носителей языка прибегает к нему изредка (113 тыс. - 19,9%) или же почти никогда (131,5 тыс. - 23,1%) (Mordawski 2018: 46). Обратим внимание, что это результаты анкетирования, а значит - не более чем отражение субъективных оценок членов речевого сообщества, но не подтвержденная наблюдением языковая практика конкретных респондентов. Опираясь на материалы нашей полевой работы, а также огромный корпус работ из области оценки языковой ситуации, признаем, что информанты часто стремятся завысить как свой уровень владения языком, так и регулярность его использования. Лингвистические антропологи отмечают, что принадлежность к языку часто означает для информантов, скорее, принадлежность к группе, чем реальную языковую компетенцию (Иванс 2012: 498). Скорее всего, даже такие цифры являются оптимистичными. Экспертные оценки, которые нам удалось собрать в ходе полевой работы от языковых активистов и исследователей, позволяют заключить, что сегодня активных носителей кашубского языка, которые говорят на нем в кругу семьи, насчитывается от 40 до 60 тыс. чел. Главным образом, это представители старшего поколения, а значит, языковая ситуация в Кашубии будет и дальше стремительно меняться в сторону польского монолингвизма, если срочно не предпринять эффективных программ ревитализации. Наше наблюдение за языковыми практиками жителей Кашубии показало, что уже во многих местах компактного проживания сообщества, а порой даже в этнически гомогенных селах, где численность кашубов превышает 90%, сегодня уже трудно услышать спонтанную бытовую речь на этом языке. В целом ряде мест, где мы работали, единственной средой, где продолжал воспроизводиться кашубский язык была школа (уроки кашубского) или же (реже) собрания этнических активистов. Таким образом, мы можем констатировать глубокий языковой сдвиг в этнической группе, а также попытаться описать его специфику среди кашубов. 4. Траектории языкового сдвига в Кашубии Уже первые профессиональные исследования этнографов и филологов, работавших в Кашубии содержат свидетельства ассимиляции кашубов в немецкую или польскую языковую среду. Так, в 1856 г. в регионе работал молодой славист Александр Федорович Гильфердинг (1831-1872), посетивший в ходе своей экспедиции практически весь кашубский этнический ареал. Результатом его исследований стала публикация в 1862 г. работы «Остатки славян на южном берегу Балтийского моря», в которой ученый отмечал: «Язык кашубов и померанских словинцев есть последний живой остаток прибалтийского наречия, объем которого в средние века был, по крайней мере, равен объему наречия польского, но которое несчастные обстоятельства мало-по-малу стерли и стирают с лица земли» (Гильфердинг 1862: 80-81). Труд Гильфердинга содержит многочисленные и бесценные для нас описания функционирования кашубского языка, его социального статуса и престижа в этнической группе, а также места в языковой иерархии региона на сер. XIX в. Так, мы видим, что уже тогда кашубский язык воспринимался местным населением как сельский, непрестижный идиом, на котором не следует говорить образованному человеку: «…здесь везде немецкий язык заменяет славянский в молодом поколении. В местечке Леба, лежащим у истока Лебского озера в море и ведущем довольно значительную торговлю, многие из простонародья знают еще по-кашубски, особенно люди пожилые, но стыдятся этого языка и публично говорят почти только по-немецки» (Гильфердинг 1862: 32). Языковые иерархии того времени формировались под влиянием и во много отражали иерархии социальные. Класс помещиков в Кашубии составляли в основном этнические немцы и поляки, среди которых ученый фиксировал наиболее уничижительные оценки кашубского: «Кашубская речь есть испорченный говор черни: как можно вельможным панам заниматься низким простонародьем и его грубою речью? (…) В разговоре со мной они даже выражали полунасмешливое удивление тому, что я находил кашубов и кашубское наречие заслуживающим изучения» (Гильфердинг 1862: 14). Гильфердинг сохранил для нас целые списки деревень, где он встречал последних пожилых носителей кашубского языка. Вместе с тем порой складывается впечатление, что ученый несколько преувеличил угрозу языкового сдвига среди кашубов. В описании этнической группы, которая испытывает «на глазах наших вымирание», а кашубского языка как исчезающего буквально «ежедневно» (Гильфердинг 1862: 5) нас убеждают, что в целом ряде мест Кашубии, особенно среди самых западных этнографических групп кашубов - словинцев и кабатков, уже через 20-30 лет не останется говорящих по-кашубски. Однако даже среди словинцев последних носителей фиксировали и в начале ХХ в., и после Первой мировой войны, и даже в 1950-е гг. Хотя, как показывает исследование Масталеж-Кристьянчук, «обнаружение» очагов кашубского языка среди словинцев в первые послевоенные годы могло быть и сильно преувеличенным. По результатам Второй мировой войны Польша приобрела контроль над всей этнической Кашубией, а славянская языковая практика местного населения была необходима новой администрации в качестве свидетельства польского национального самосознание словинцев. На основании языка словинцы должны были стать витриной славянскости/польскости приобретенных территорий, легитимизирующей включение Западного Поморья в состав Польши (Mastalerz-Krystjańczuk 2019). В связи с этим в польской послевоенной публицистике был крайне высокий запрос на кашубский «языковой оазис» среди словинцев. Работы Гильфердинга, как и его коллег (Szultka 1992: 67), содержат отчетливый алармистский дискурс: традиционные культуры и народы вырождаются, хиреют и исчезают. Как отмечает Джеймс Клиффорд, заявления об исчезновении культур, языков и диалектов в момент, когда они впервые описывались посторонними наблюдателями, - это центральная для западной этнографии риторическая фигура (Клиффорд 2014: 109). Тем не менее, языковой сдвиг среди кашубов является социальным фактом и его истоки можно проследить не позже сер. XIX в. До конца Второй мировой войны языковая ситуация в Кашубии характеризовалась функционированием не менее четырех языковых кодов, которыми в разной степени владело большинство этнических кашубов. Внизу языковой иерархии традиционно находился локальный вариант кашубского, который в виде одного из многочисленных диалектов или говоров был основным языком внутрисемейного и соседского общения. Литературный немецкий долгое время, а в некоторых районах Кашубии плоть до конца Второй мировой войны, был языком школы и администрации. Многие кашубы также владели и каким-либо локальным вариантом нижненемецкого, на котором общались с многочисленным немецким населением Померании, потомками средневековых колонистов-переселенцев. Будучи католиками, кашубы также постоянно слышали польский язык в костеле, а после 1920 г., когда часть региона вошла в состав Польши, он становится и языком политической власти (Zieniukowa 2009: 261-263). «Моя бабка, помню, польского не знала. Только кашубский и немецкий. По-кашубски дома говорила, в семье. А по-немецки - если в город выбиралась, на рынок там…» (ж., кашубка, 36 л., Слупск) Языковая картина региона радикально меняется после 1945 г., когда значительное число немецкого населения Поморья было депортировано, а вся этническая Кашубия окончательно вошла в состав Польши. Традиционная полиязычность кашубов сменяется кашубско-польским билингвизмом, носящим очевидно несимметричный характер. Языком администрации, школы, костела и СМИ становится исключительно государственный польский. Как отмечает Ханна Макурат, польский имел все преимущества как язык престижный, официальный, знание которого является обязательным для нормальной жизни в Польше (Makurat 2006: 109). Кашубский, которому отводилась роль архаичного диалекта, преподносился как не более чем средство выражения фольклорной специфики автохтонного населения региона. Именно в этот период происходит стремительное исчезновение некогда многочисленных диалектов кашубского языка, постепенно прекращается его межпоколенческая передача. Основываясь на собранных в ходе полевой работы материалах, особенно наших семейных интервью, можно утверждать, что последнее поколение моноязычных или двуязычных, но не говорящих по-польски, кашубов ушло примерно к 1970-80-м гг., а наш опрос среди школьных учителей показал, что дети, свободно говорящие на кашубском как на первом, перестали приходить в школу еще с начала 1990-х гг. «Родители работали и нас воспитывала сестра деда. Мы называли ее просто тётей. Она вообще польского не знала… Родилась еще до Первой мировой войны. В костеле она, конечно, слышала польский, но не говорила… И когда мой отец хотел позлить её, он всегда обращался к ней по-польски. Она этого терпеть не могла (смеется)». (м., кашуб, 54 г., Картузы) В ходе наших интервью современные носители также отмечают низкий престиж родного языка как внутри сообщества, так и за его пределами. «Еще до этого закона был какой-то стыд… мол, это какой-то диалект. На нем стыдно было говорить. Только дома… а сейчас это тоже есть, но уже меньше». (ж., 42 г., Картузы) «В хлеве со свиньей можно было говорить по-кашубски… а чтобы ученый человек… этого себе невозможно было представить». (м., кашуб, 36 л., Вейхерово) Таким образом, информанты последовательно описывают ситуацию диглоссии, или сосуществования двух вариантов языка (кашубский прежде считался диалектом польского), четко размежеванных по функциональной сфере и престижу (Фергюсон 2012: 44). Многими информантами кашубский преподносился или описывался как воспринимаемый в качестве деревенского языка, который должен остаться в пределах родного поселения, если кашуб выезжает в город. В ходе наблюдения мы не раз замечали, как в городском пространстве у информантов происходило переключение на польский язык. На польский переходили даже те, в чьих семьях кашубский до сих пор основной язык общения. Порой мы фиксировали, как информанты старались понижать тон своего голоса, если мимо нас проходили прохожие, например, на улицах Гданьска. Чаще всего мы специально не акцентировали на этом внимание наших собеседников и не задавали уточняющих вопросов, чтобы не спровоцировать внутреннюю рефлексию информантов, способную исказить их привычные языковые практики. Но полагаем, это связано с тем, что наши информанты старались избежать внимания окружающих к своей речи. Наблюдая за тем, как информанты выстраивают актуальные для себя социальные границы мы не раз сталкивались с ситуативной трактовкой «своего» и «чужого». Практически для всех наиболее актуальной границей оказывалась черта, разделяющая городское пространство как территорию образования и цивилизации, где безгранично властвует польский язык и культура, где необходимо быть и вести себя “как поляки”, от деревни, где можно «быть собой». Кашубы - преимущественно сельская этническая группа, две трети которой проживает в селах и небольших поселках. Отсюда граница, как этническая, так и языковая, по линии «кашубское/некашубское» прочно ассоциируется с границей «город/деревня». И хотя сегодня жизнь многих кашубов намного сильнее связана с крупным городом, чем еще совсем недавно (многие из них учатся и работают в Гданьске и Гдыне), традиционный стереотип, что кашубский - это язык деревни, очень устойчив и, как мы заметили, продолжает прививаться молодому поколению: «Наши школьные учителя говорили нам: «Не говорите по-кашубски в Гданьске. Иначе к вам отнесутся как к деревенщине». (м., кашуб, 25 л., Вейхерово) По свидетельствам очевидцев, уже в 1950-1960-е гг. начинается процесс массового и повсеместного прекращения межпоколенческой передачи кашубского языка. Как заметила одна наша информантка, уроженка центральной Кашубии (из-под Картуз): «Поколение моих родителей, 70-летние и старше, не передали язык своим детям… Они даже не имели такого намерения…Это, конечно, лишь мои наблюдения как журналистки и жительницы Кашуб, но, думаю, что это касается почти 90% семей здесь». (ж., кашубка, 56 л., Гданьск) Низкий престиж кашубского влек за собой слабую языковую лояльность в сообществе. В речевом сообществе язык постепенно получал оценку как «бесполезного». Владение кашубским не считалось достоинством. Поколение, свободно владеющее идиомом и пользующееся им в разговорах между собой, оценивало знание языка не как дополнительный ресурс, а как признак отсталости и нецивилизованности. «Мы в семье не говорили по-кашубски, но постоянно слышали, как мама говорила с тетей, бабушкой, соседками по-кашубски… Все время была такая установка, что… все это поколение считало, что обучение ребенка кашубскому его испортит». (ж., кашубка, 31 г., Гданьск) Но как показывают материалы наших интервью, интенсивность языкового сдвига среди кашубов объясняется не только традиционно низким престижем кашубского в сообществе, но также и последовательная языковая, культурная и образовательная политика государства. После трагических событий Второй мировой, включая геноцид еврейского населения, последующую утрату обширных восточных регионов, населенных литовцами, белорусами и украинцами, а также депортацию этнических немцев, Польша воспринимала себя как гомогенное национальное государство.[12] Как отмечает Эйнар Хауген, внутренняя логика национального государства состоит в том, чтобы минимизировать внутренние различия и максимизировать внешние. Идеал нации - внутренняя сплоченность и внешняя разделенность (Хауген 2012: 104). Государство очень быстро улавливает тревожные сигналы языкового сепаратизма, поэтому группы населения, чьи языковые практики и идентичность не вписываются в унифицирующие рамки нации, становятся объектом языкового переучивания. Это должно было особенно ярко проявиться в регионах, окончательно вошедших в состав Польши лишь после Второй мировой войны. Полевой материал обнаруживает живую память этнической группы о практиках языковой гомогенизации, реализуемой государством в течении всей второй половины ХХ в. «Родителям говорили… годах в 1950-1960-х… что дети должны правильно учиться говорить по-польски, потому что детям будет сложнее в школе, если придут в школу, не зная правильного польского. Это было довольно забавно, ведь большинство родителей тут на Кашубах… того поколения предвоенного… польский был для них как иностранный. И они пытались правильно говорить с детьми. Конечно, говорили они неправильно. Собственно, они сами учились польскому от своих детей, которые позже шли в школу». (ж., кашубка, 56 л., Гданьск) Как видно, одним из наиболее эффективных инструментов подобного «языкового перевоспитания» миноритарных приграничных сообществ являлась государственная школа. Многочисленные интервью показывают, как школа была ведущим государственным унифицирующим институтом, провоцирующем рефлексию о собственной культурной «инаковости» информантов. Особенно острым такое свыкание со своей этничностью было у представителей старшего поколения, для которых кашубский был первым языком, а встреча со школой - этапом «переучивания правильному языку». Когда о школе говорят в прошедшем времени, пусть это будет даже начало 2000-х, она неизменно описывается как пространство, где нет места ничему кашубскому. Ни один информант, который получил образование до развала коммунизма, не смог вспомнить хоть один школьный праздник или концерт, где бы как-то подчеркивались этническая специфика региона. Один активист, описывая свои школьные годы (конец 1970-х), припоминает: «Я в школе никогда не слышал кашубский. С нами всегда говорили по-польски. Но однажды… мы поехали на какую-то экскурсию… и учитель заговорил с хозяином по-кашубски. Я был шокирован, что он может говорить по-кашубски. Думаю, большинство учителей знали язык, но специально с нами не говорили». (м., кашуб, 54 г., Картузы) Кашубский преподносился школой как нечто архаичное, что не может быть частью жизни современного, образованного человека. «Случалось, мне мама рассказывала, что кашубский язык отождествлялся с… деревенщиной, с необразованностью. Учителя ее часто исправляли: «Не говори так! Говори по-польски правильно! Не говори, как село». Это остается в людях… Люди сами начинали стесняться говорить по-кашубски». (ж., кашубка, 35 л., Гданьск) Наш полевой опыт среди других миноритарных этнических групп страны позволяет говорить, что подобное отношение к локальным идиомам было типичным явлением для польского общества во втор. пол. ХХ в. Во время работы среди силезцев на польско-чешском пограничье наши информанты делились удивительно близкими воспоминаниями: «Я помню свою школу… Это был урок польского языка, нам что-то рассказывали о диалектах. Учительница говорила о мазурском, кашубском диалекте… о других. И тут я спрашиваю ее: «А как же наш говор [gwara]?». И тогда учительница ответила, что раньше был такой диалект… силезский… но только в селах, и только неграмотные люди говорили на нем. Мне это было так обидно… Ведь на этом языке я говорил со своей бабушкой и дедушкой…» (м., силезец, 61 г., Катовице) Схожесть социолингвистической ситуации в сельской Кашубии и индустриальной Силезии, которая в тот момент испытывала экономический подъем, позволяет предположить, что в Польше того времени отсутствовала «кашубофобия» (и «силезофобия») как таковая. А терминология, применяемая информантами: («niepoprawna polszczyzna», «niepoprawnie mówić po polsku» - «неправильный польский», «неправильно говорить по-польски»), позволяет предположить, что угнетению подвергался не столько кашубский как таковой, сколько тот самый «неправильный польский». Сведение кашубского языка к функциональному статусу диалекту позволяло воспринимать его как рудимент, сохранившийся в необразованных сельских массах. В свою очередь, это делало его исчезновение понятным, естественным, а порой даже желаемым. Размышления информантов позволяют пролить свет на ту мотивировку, которой руководствовались школьные учителя, будучи инструментом ассимиляции. Вытравливая из детей все кашубское, уча их тому, как «говорить по-польски правильно», учителя полагали, что действуют во благо ребенка, приобщают его/ее к более престижной стандартизированной культуре, которая открывает перед детьми больше перспектив. «Во времена ПНР (Польской Народной Республики) те учителя, которые били за разговор по-кашубски, это же тоже часто были кашубы, которые хотели… ну имели такой идеологический подход, что кашубский язык - это что-то такое, что должно вымереть, что он нам мешает… и они часто очень брутально относились из-за этого к детям». (м., кашуб, 48 л., Вейхерово) Последняя цитата затрагивает болезненный образ кашубского учителя, который стал орудием полонизации. Иногда в ходе интервью нам рисовали достаточно яркий образ национального предателя, ренегата. Информанты с осуждением и пренебрежением описывали конкретные случаи, когда такие учителя после упадка коммунизма резко меняли амплуа и включались в этнический активизм, становясь пионерами возрождения и преподавания родного языка. «Может быть, это такое стремление с их стороны к искуплению свои дел… сделать что-то лучше, но я знаю, так как разговаривал с людьми, которые помнят про тех учителей, потому что сами были их учениками… и они говорят с таким огромным сожалением… «Для чего этот учитель теперь так хвалится тем, что выдал какую-то кашубскую книжку, почему он так гордится, что организовал какое-то мероприятие? Я же помню, что он нас бил за это». (м., кашуб, 28 л., Гдыня) Одна из предыдущих цитат поднимает тему физического насилия за употребление родного языка. Сразу несколько информантов разных поколений рассказывали нам о насильственных практиках образования и вытеснения «низкой» кашубской культуры. Не раз мы слышали о том, как учителя били линейкой по рукам за разговор по-кашубски. «Инф.: Когда была коммуна, кашубский подавляли… Били в школах линейкой… И мои родители, они как раз учились в то время, они не научились кашубскому. Незнакомый мужчина рядом (около 60 лет): Но после войны уже никого не били… если кто по-кашубски разговаривал. Инф.: Били, били! Моим родителям 50. Их били. Отца били». (м., кашуб, 18 л., Брусы) Обращение к сравнительному материалу других языковых миноритарных групп (Баранова 2010: 245) позволяет предположить, что упоминание телесных наказаний за использование родного языка может быть отдельным риторическим приемом в дискурсе сообщества. Более того, симптоматично, насколько неизменным может транслироваться образ школьного насилия по поводу языка даже в одном и том же сообществе. Читая описания Гильфердинга («… в их школах бьют детей за каждое слово, сказанное друг дружке по-славянски», «что касается сечения в школе за слово, произнесенное по-кашубски, то оно господствует и в Клечицах, как сказывал мне тамошний мальчик по собственному опыту») (Гильфердинг 1862: 27), мы не раз поражались их схожести с современными нарративами наших информантов, представленными выше. Парадоксальная перемена заключается в том, что если в прошедшем времени о школе говорят как об институте по “перековке” кашубов в поляков, как об инструменте ассимиляции, то сегодня, в условиях далеко зашедшего процесса языкового сдвига в сообществе, именно школа воображается как последнее прибежище этнической культуры. В ситуации, когда межкополенческая передача языка практически прекратилась, именно от школы активисты ожидают ведущую роль в сохранении языка. Примечательно, что зачастую речь идет об одних и тех же («посткоммунистических») школах, которые пытаются вписаться в новый тренд ревитализации. Как показывает наше включенное наблюдение в школах, уже сегодня в ряде мест Кашубии школа осталась единственным пространством, где еще продолжает звучать кашубская речь. «Наверное, если бы кашубский не изучался в школе, то у него бы не было ни единого шанса сохраниться». (ж., кашубка, 56 л., Гданьск) 5. Возрождение кашубского: языковая стандартизация и критика сообщества Первые последовательные попытки приостановить процесс языкового сдвига среди кашубов начались задолго до признания кашубского языка региональным в Польше в 2005 г. Во многом это было связано с изменением политического режима и трансформацией общепольской общественной дискуссии касательно этнического и лингвистического разнообразия в стране. Так, еще в 1991 г. кашубский язык впервые в истории появился как предмет школьного преподавания. Тогда группа из чуть более 20 детей его начала изучать в гимназии южнокашубского городка Брусы. Уже через несколько лет активистами языковой стандартизации был принят единый унифицированный для всех диалектов алфавит кашубского языка. В 2006 г. был создан орган, регулирующий процесс кодификации литературной нормы кашубского - Совет по кашубскому языку, куда вошли как профессиональные филологи, так и участники этнорегионального движения. Совет ежегодно издает отчетный бюллетень, в котором публикуются рекомендательные нормы для орфографии, терминологии и словотворчества формирующегося наддиалектного стандарта. В 2012 г. при филологическом факультете Гданьского университета создан Центр кашубского языка и культуры, который выпускает специалистов по направлению «кашубская этнофилология». Подразумевается, что это будет ведущий центр по подготовке кадров в области преподавания кашубского в регионе. Изображение выглядит как одежда, в помещении, Образование, стол Автоматически созданное описание Рис. 1. Урок кашубского языка в селе Дземяны (Южная Кашубия) Figure 1. The Kashubian lecture in Dziemiany village (Southern Kashubia) Поскольку сегодня в нашем распоряжении уже имеется практически тридцатилетний опыт школьного преподавания кашубского языка, мы можем подвести определенные итоги этой практики, как и зафиксировать реакцию на нее в самом речевом сообществе. Сегодня кашубский язык изучает порядка 20 тыс. школьников практически на всей территории этнической Кашубии. Однако материалы наших интервью с языковыми активистами и педагогами, а также включенное наблюдение в нескольких школах с преподаванием кашубского, общение с учениками и их родителями показывают, что внедрение кашубского в систему школьного преподавания существенно не повлияло на приостановление языкового сдвига в сообществе, хоть и повысило уровень социального престижа у этнического языка. Во всех школах региона кашубский изучается как факультативный предмет и в среднем его изучение выбирает всего от трети до половины учеников класса, даже в этнически гомогенных селах. Наше наблюдение во время уроков зафиксировало, что чаще всего кашубский преподается по методике иностранного языка. Языком инструкции выступает польский. Порой лекции кашубского скорее напоминают этнорегионоведение, на котором дети время от времени поют с учителем песни на кашубском языке. Это мало способствует формированию у учеников высокой языковой компетенции. Многие изучающие кашубский язык дети, с которыми нам удалось побеседовать, с трудом поддерживают элементарный диалог на бытовые темы. Данная ситуация кардинально отличается от языковой картины, зафиксированной нами в Верхней Силезии (наша работа в марте 2022 в школе №19 г. Свентохловице), где в ряде повятов еще есть поколение детей, свободно говорящих по-силезски, но преподавание родного языка там не ведется. Отчужденность и слабую заинтересованность детей в изучении родного языка с явной грустью порой признавали и сами информанты: «Недавно были уроки кашубского в том моем лицее, картузском. Не знаю, есть ли они еще. Несколько лет назад были, потому что их внедряла моя приятельница… Я была там на встрече, но видно было, что молодежь, которая должна была учить этот кашубский… то она так… всю эту кашубскость воспринимает так, будто это какая-то китайскость». (ж., кашубка, 52 г., Гданьск) Хотя все же полтора десятилетия функционирования кашубского в статусе регионального языка привело к появлению специфического, хоть и довольно узкого, слоя неоносителей. Под неоносителями мы будем понимать кашубов, которые выросли в польскоязычных семьях, но освоили язык в сознательном возрасте. Такая группа информантов была нами встречена пока исключительно среди педагогических кадров, а также молодого поколения этнических активистов, которые, получив основы кашубского в школе, позже совершенствовали свое владение родным языком при помощи самообразования или общения с пожилыми родственниками. Термин «новые носители» не так давно получил распространение в социолингвистике для обозначения той категории носителей языка, которая появилась в результате попыток языковой ревитализации. По определению О’Рурка, новые носители - это индивиды, которые дома или внутри сообщества мало, или вообще не соприкасались с малым языком, но вместо этого выучили его благодаря иммерсивным или двуязычным образовательным программам, проектам языковой ревитализации или на курсах для взрослых (O’Rourke 2014: 1). То есть неоносители - это кашубы, которые вновь выучили кашубский язык после языкового сдвига. Некоторые неоносители, которых мы встречали, прошли в свое время программу последипломного образования в Гданьском университете и сегодня являются школьными учителями кашубского. Как мы заметили, это порой вызывает некое смятение у традиционных носителей языка, поскольку они отмечают «неестественность», «ненатуральность» кашубского у этих новых учителей. «Учителя уже чаще не native-speakerzy (нейтив-спикеры). Это люди, которые учили литературный кашубский. Они говорят на таком языке, который для поколения дедушек звучит странно, неестественно. На таком языке никто никогда не говорил. Только сейчас люди начинают осознавать, что есть такой литературный кашубский, и что он не звучит как язык из какой-либо деревни». (ж., кашубка, 56 л., Гданьск) Подобное замечание заставляет нас обратить внимание на ту реакцию, какую в речевом сообществе вызывает внедрение и пропаганда нового варианта родного языка - его литературной нормы, с которой нынешние поколения носителей сталкиваются впервые. В целом, эту реакцию можно описать как настороженную и критическую. Информанты описывали нам «школьный язык» как «ненастоящий», «искусственный кашубский». Поразительно, как подобную критику часто разделяли не только традиционные носителя языка, но и часть неоносителей, которые, критикуя языковые инновации, стремились защитить тот «естественный» и «исконный» кашубский, на котором сами уже не говорят. «Тут появилось столько новых кашубских слов, что я бы был более осторожным. Эти слова часто искусственные, они не звучат как настоящий кашубский язык. и тут формируется такая пропасть между тем кашубским из книжек, и кашубским, который мы знаем из семей». (м., кашуб, 28 л., Гдыня) Более того, даже кашубы, не владеющие языком, имеют негативную оценку формирующегося литературного стандарта языка. «В школе этот язык уже литературный. Когда мы его слышим, мы чувствуем какую-то неправду… Мы немного смеемся с этого, это такой искусственный язык… Они насильно стараются его осовременить». (м., кашуб, 61г., Ястарня) Активисты, ответственные за создание и распространения единого стандарта кашубского, осознают и признают тревожную реакцию в этнической группе, однако описывают наддиалектную кодификацию литературного языка как неизбежный процесс, через который должно пройти сообщество в процессе сохранения своего языка. Как призналась нам авторка одной из известных грамматик кашубского языка: «Да, диалекты сильно отличаются. Кашубский, можно сказать, такой… искусственный язык. Ну… не совсем естественный. Если я говорю на литературном кашубском с человеком из деревни, который, возможно, впервые столкнулся с литературным языком, то для него, конечно, это будет странным. (…) Сильно отличается от диалектов, но надо было найти компромисс. Трудно найти компромисс, который удовлетворил бы всех. Это невозможно… Поэтому мы берем слова из разных диалектов…» (ж., кашубка, 37 л., Гданьск) Смятение этнической группы, когда она впервые сталкивается с литературным вариантом родного языка не ново в исследовательской литературе. Как отмечал Эрик Хобсбаум: «Всякий язык, который переходит из исключительно устной речи в область чтения и письма, то есть a fortiori всякий язык, который становится средством школьного обучения или официального использования, меняет свой характер. Должна произойти стандартизация его грамматики, письма, словаря и, возможно, произношения. И его лексический диапазон должен быть расширен для покрытия новых потребностей. Само превращение языка в средство письма ведет к уничтожению разговорного языка. Если превратить его в школьный язык, он перестает быть языком, на котором говорят дети» (Хобсбаум 2005: 51). Наш интерес к кашубскому случаю объясняется тем, что языковой активизм в данном сообществе представляет для нас интересную «лабораторию» для наблюдения за акцептацией и освоением письменного языка, который для большинства носителей всегда был средством исключительно устной коммуникации. Красочным примером для нас является рассказ информанта из Центральной Кашубии. В сер. 1980-тых ему в руки попал журнал «Pomerania», издаваемый крупнейшей кашубской этнической организацией ZKP, в котором периодически печатались кашубские стихи и небольшие статьи при помощи польского алфавита. Информант, для которого кашубский был и остается сегодня главным языком семейного общения, долго вертел журнал и не мог понять, на каком языке эти статьи, предполагая, что это чешский. Сегодня в основу формирующейся литературной нормы кашубского языка положена центральнокашубская группа диалектов, особенно говоры, распространенные на территории современного Картузского повята. С одной стороны, это сделано, поскольку носители именно этой крупы диалектов сегодня численно преобладают в речевом сообществе, с другой стороны, лингвистические идеологии наших информантов преподносят центральный диалект как наиболее «аутентичный». Южнокашубские диалекты не раз нам описывались как «полонизированные», активисты жаловались, что южные кашубы, скорее, говорят на полькаше (polkasz), или на кашубско-польском суржике. Северные же диалекты, несмотря на их сравнительно хорошую сохранность, малопонятны большинству современных кашубов. Хотя отметим, что исторически первый проект кашубского литературного языка, предложенного региональным активистом и писателем Флорианом Цейнова (1817-1881), основывался именно на родных для автора пуцких говорах северного диалекта. В этой связи чешский лингвист Владислав Кнолл предлагает называть первый проект кашубской письменности как тупиковый, в том плане, что предложенный авторский вариант не лег в основу последующего литературного языка, но в определенной мере повлиял на него (Кнолл 2017: 17). Материалы нашей полевой работы позволяют говорить о зарождающейся в речевом сообществе, по крайней мере на уровне языковых активистов, дискуссии о возможности одновременного развития и преподавания более одной литературной нормы кашубского. Подобные идеи возникают из-за специфики преподавания литературного языка, основанного на центральнокашубских диалектах, в современной Северной Кашубии. Как утверждает кашубский писатель, активист и педагог Артур Яблонский, повсеместное преподавание центральнокашубского не только не замедляет процесс языкового сдвига в сообществе, сколько подстегивает его. Кашубские дети в Вейхеровском и Пуцком повятах, ознакомившись в школе с литературным языком, лишены возможности практиковать этот язык в коммуникации со старшими представителями своих семей, которые еще помнят родные северные диалекты, поскольку центральнокашубский малопонятен для них. В итоге это приводит к тому, что представители разных поколений все-равно вынуждены переходить на польский в общении между собой. Сегодня предложения о создании «параллельного» северного варианта литературного языка или реформы кашубской письменности воспринимаются неоднозначно. Многие активисты полагают, что такие усилия приведут к утрате языковых достижений последних десятилетий. «Тут процесс не пошел в очень хорошую сторону… то есть, мы чересчур сблизили письменность с польским языком, что, с одной стороны, упрощает его изучение. Ведь раз уж кто-то умеет писать по-польски, ну тогда проще ему будет научиться… но позже сложнее будет с произношением, так как много есть таких вещей, которые, казалось бы, похожи в обоих языках, но на самом деле различаются. То есть тут как бы… не пошло в нужную сторону. Пару вещей надо изменить, тогда как в последнее время появилась идея создания абсолютно новой письменности. И я с этим не согласен. Вышло уже много книг и много детей уже научилось такому кашубскому, который мы знаем, чтобы уже вводить новую письменность». (м., кашуб, 28 л., Гдыня) Стихийные практики этнического активизма являются для нас важным материалом, который позволяет отслеживать реакцию в речевом сообществе на языковую гомогенизацию и сопротивление единому литературно-языковому канону «кашубскости». Так, яркий пример нам дает севернокашубский курортный городок Ястарня, где протекала наша работа. Во всей Кашубии это единственный населенный пункт, где названия улиц полностью продублированы на кашубском языке, что является предметом особой гордости жителей. Однако, если приглядеться к табличкам повнимательнее, можно заметить буквы, которые отсутствуют в кашубском алфавите. Местные активисты решили использовать свою собственную графику, которая, по их мнению, лучше отображает особенности локального произношения. Интересно, что специфика языка здесь используется в этническом дисплее, видимом лишь внешнему наблюдателю, Кашубский не имеет в гмине статуса рабочего языка, а потому все официальное делопроизводство идет на польском. Сразу же после установки эти таблички стали популярной у польских туристов достопримечательностью. Ястарня посредством таких табличек старается максимально подчеркнуть свою «непольскость» (а в некотором роде и альтернативную «кашубскость»), чтобы выглядеть более оригинально и нетривиально для туристов, которые летом приезжают на море. Кашубы из других регионов иногда критично оценивают подобную практику, называя это «беляцтвом» (от каш. bëlôcë как принято в сообществе именовать этнографическую группу северных кашубов, проживающих на Хельском полуострове и говорящих на так называемых беляцких (bëlôcczich), самых архаичных, диалектах кашубского). Изображение выглядит как на открытом воздухе, дерево, небо, растение Автоматически созданное описание Рис. 2. Двуязычный уличный указатель в г. Ястарня Figure 2. Bilingual street sign from Jastarnia Продолжая сюжет двуязычных указателей, заметим, что они оказываются одним из наиболее ярких элементов современного языкового ландшафта Кашубии и важным компонентом языковой ревитализации. Установка двуязычных польско-кашубских дорожных указателей, что с 2005 г. позволяет делать статус регионального языка, является эффективным инструментом конструирования специфического этноландшафта, то есть маркирования территории как принадлежащей конкретной этнической группе, имеющей на нее эксклюзивные права. Формирование этноландшафта является важной частью этнорегионализма, которое, по определению Смита, состоит в отождествлении региона с этническим сообществом (Смит 2004: 125). Кашубия как отдельная административно-территориальная единица не существует. Кашубия существует лишь в представлении кашубов (как активистов, так и неактивистов) о том, какая территория является «нашей». Тем не менее, среди сообщества существует явное желание выделить свою территорию, перенести ее из области исключительно воображения членов малой этнической группы в наблюдаемую реальность, визуализировать ее границы и сделать видимой как для себя, так и для других. Как показывают интервью, двуязычные таблички очень эффективно справляются с задачей выстраивания этнической границы, которая моментально становится актуальной и видимой для информантов. Факт «прорисовки» такой границы в наших интервью всегда описывался как позитивный, а его влияние на самоощущение порой характеризовалось как «магическое». «Не знаю, я когда выезжаю на машине за пределы Кашубии и возвращаюсь… то как же это классно (смеется)… Словно попадаешь в совсем другое место, другую страну… Это просто магия какая-то». (ж., кашубка, 43 г., Дземяны) Изображение выглядит как на открытом воздухе, трава, небо, знак Автоматически созданное описание Рис.3. Двуязычный дорожный указатель в Южной Кашубии (г. Брусы) Fig.3: Bilingual road sign in Southern Kashubia (Brusy) 6. Заключение За последние три десятилетия кашубский язык проделал значительный путь от непрестижного сельского диалекта, стыдливо скрываемого его носителями, до единственного официально признанного в Польше регионального языка. Впервые в истории кашубский язык занял новые для себя функциональные сферы: образование, СМИ, делопроизводство, уличная реклама. Сегодня мы являемся свидетелями формирования его унифицированной литературной нормы. Вместе с тем, эмансипация кашубского языка, как и повышение его престижа в этнической группе, происходит на фоне глубокого языкового сдвига в сообществе, когда практически прекратилась его межпоколенческая передача. Став языком газет и школы, кашубский перестает быть языком, на котором говорят дома. Материалы нашей полевой работы позволяют говорить о том, что сегодня опыт реализации языковых прав кашубов обнаруживает множество противоречий. Так, внедрение кашубского в образовательную сферу не повлияло на уменьшение темпов языкового сдвига в этнической группе, на что так возлагали свои надежды этнические активисты. Обилие прав для носителей кашубского, которые предоставляет статус регионального языка, нивелируется их непоследовательным применением или же практической нецелесообразностью. Так, ни один из опрошенных нами информантов никогда не писал официальных заявлений или обращений в органы власти на кашубском языке, поскольку все они также свободно владеют польским и скорее получат обратный ответ на польскоязычное обращение, так как не будет затрачиваться время на поиск переводчиков. Сегодня в этнической группе критике все чаще подвергается сама концепция «языкового регионального сообщества», которая, по мнению части наших собеседников, не способна служить эффективным инструментом защиты этнической культуры перед угрозой ассимиляции. «Этот термин - это лайтовая версия диалекта для ХХI века. Это значит, что мы учим в школах не кашубский язык, а только региональный. И при этом нам преподают польский, который по умолчанию - родной. Это все - терминологическая полонизация кашубов. Каким образом польский родной для меня, для моего народа, тогда как еще три поколения назад никто его тут не знал?.. Все это делается для того, чтобы сделать из нас поляков, чтобы мы забыли, что когда-то мы были иными, что мы могли бы жить по-своему, а не иметь над собой этого польского культурно-языкового зонта». (м., кашуб, 36 л., Реда) Многие информанты высказывали недовольство защитой лишь языковых прав сообщества. «Если мы - лишь языковое региональное сообщество, то это значит, что поддержкой пользуется лишь язык, но никто не говорит о всей системе культуры... Если мы не будем среди молодежи развивать взгляды о своей отличительности... не только языковой отличительности, то это будет значить... что наше сообщество перестанет существовать». (ж., кашубка, 56 л., Гданьск) За подобными критическими замечаниями кроются претензии на повышение социального и юридического статуса сообщества, возможно, в виде законодательно признанного этнического меньшинства в стране. Осознание и постепенное смирение с фактом утраты сообществом родного языка, продемонстрированное нашими информантами, заставляет их оглядываться в поисках дополнительных инструментов консолидации групповой идентичности. В то же время язык все еще остается одним из самых важных маркеров этнической идентичности в регионе, а языковая специфика кашубов сегодня определяет юридический статус всего сообщества. Пока еще живо старшее поколение, которое говорит на кашубском как на первом языке. Постепенно появляется слой неоносителей. Наши материалы показывают, что язык является тем индикатором, который особенно отличает информантов-активистов на фоне всего сообщества. Активисты, которые воспринимают себя как «витрину» своей группы, обладают изощренной языковой рефлексией. В целом, эта рефлексия сводится к повышенным требованиям к собственной языковой компетенции. Так, многие наши информанты могли крайне негативно оценивать недостаточный уровень владения языком у своих коллег. Низкий уровень владения языком описывается как неискренний, ненастоящий активизм. Предположение, что этнический активист может не передать язык своим детям, воспринимается с негодованием. Как отмечает Николас Иванс, такое может происходить в ситуациях языковой смерти, когда знание языка идентифицируется с ритуальным и церемониальным статусом (Иванс 2012: 503-504). Создается впечатление, что человек, недостаточно владеющий кашубским или же просто недостаточно демонстрирующий свое владение языком, не может претендовать на репрезентацию своего сообщества. Такой материал дают интервью. Но непосредственное наблюдение позволяет нам заключить, что соотношение между запросом на языковую компетенцию и реальной языковой практикой среди активистов является намного более гибким. Проведя несколько часов на собрании активистов ZKP в одном из южнокашубских поселков, мы заметили, что несмотря на состав участников (из шести местных активистов трое были учителями кашубского языка), за вечер не прозвучало ни одного слова по-кашубски. Как видно, идеология этнического и языкового возрождения в Кашубии сегодня сочетается с двуязычными или преимущественно польскоязычными практиками социального активизма.About the authors
Oleksandr D. Vasiukov
European university at Saint Petersburg; Foundation for Siberian Cultures
Author for correspondence.
Email: ovasiukov@eu.spb.ru
PhD student at Europenean University Saint Petersburg, Russia; Fürstenberg / Havel, Germany
References
- Баранова В. Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья. М.: ВШЭ, 2010. [Baranova, Vlada. 2010. Yazyk i etnicheskaia identichnost'. Urumy i rumei Priazov'ia (Language and ethnic identity. The Urums and Rumaiics of Azov region). M.: HSE.] (In Russ.)
- Барт Ф. Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культурных различий. М.: Новое издательство, 2006. [Barth, Fredrik. 2006. Ethnic groups and boundaries. Social organizations of cultural differences. M.: Novoe izdatel'stvo.] (In Russ.)
- Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: ВШЭ. 2012. [Brubaker, Rogers. 2012. Ethnicity without groups. M.: HSE.] (In Russ.)
- Васюков О.Д. Между этнографической группой и народом: национальный дискурс кашубских и силезских активистов в современной Польше // Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. № 2. C. 173–209. [Vasiukov, Oleksandr. 2019. Mezhdu etnograficheskoi gruppoi i narodom: natsional'nyi diskurs kashubskikh i silezskikh aktivistov v sovremennoi Pol'she (Between an ethnographic group and a people: national discource of Kashubian and Silesian activists in contemporary Poland). Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii 2. 173–209.] (In Russ.)
- Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. [Gellner, Ernest. 1991. Nations and nationalism. M.: Progress.] (In Russ.)
- Гильфердинг А. Остатки славян на Южном берегу Балтийского моря. Этнографическій сборникъ. Выпускъ V. СПб: Типографія В. Безобразова, 1862. [Gilferding, Alexandr. 1862. Ostatki slavian na Yuzhnom beregu Baltiiskogo moria (The Slavic remnants at the Southern beach of Baltic Sea). St.P.: Tipografіia V. Bezobrazova.] (In Russ.)
- Дориан Н. Утрата и сохранение языка в ситуациях языкового контакта // Социолингвистика и социология языка. Т.1. / под ред. Н.Б. Вахтина. СПБ: Издательство Европейского университета, 2012. C. 382–401. [Dorian, Nancy. 2012. Language loss and maintenance in language contact situations. In Nikolai B. Vakhtin (ed.), Sociolinguistics and Sociology of Language. 382–401. St.P.: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta.] (In Russ.)
- Иванс Н. Последний носитель умер — да здравствует последний носитель! // Социолингвистика и социология языка. Т.1. / под ред. Н.Б. Вахтина. СПБ.: Издательство Европейского университета, 2012. C. 494–526. [Evans, Nicolas. 2012. The last speaker is dead — long live the last speaker! In Nikolai B. Vakhtin (ed.), Sociolinguistics and Sociology of Language. 494–526. St.P.: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta.] (In Russ.)
- Клиффорд Дж. Об этнографической аллегории // Социологическое обозрение. 2014. Т.13. №3. C. 94–125. [Clifford, James. 2014. On ethnographic allegory. Sotsiologicheskoe obozrenie, 3: 94–125.] (In Russ.)
- Кнолл В. От литературных идиолектов к региональным литературным языкам (не только) в славянском мире // Миноритарные и региональные языки и культуры Славии / под ред. С.С. Скорвида. М.: Институт славяноведения РАН, 2017. С. 11–43. [Knoll, Vladislav. 2017. Ot literaturnykh idiolektov k regional'nym literaturnym yazykam (ne tol'ko) v slavianskom mire (From literary idiolects to the regional literary languages in Slavic world). In Sergei S. Srorvid (ed.), Minority and regional language in Slavic world. 11–43. M.: Institut Slavianoviedenia RAN.] (In Russ.)
- Смит Э. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий нации и национализма. М.: Праксис, 2004. [Smith, Anthony. 2004. Nationalism and modernism: a critical survey of recent theories of nations and nationalism. M.: Praksis.] (In Russ.)
- Фергюсон Ч. Диглоссия // Социолингвистика и социология языка. Т.1. / под ред. Н.Б. Вахтина. СПБ.: Издательство Европейского университета, 2012. C. 43–62. [Ferguson, Charles. 2012. Diglossia. In Nikolai B. Vakhtin (ed.), Sociolinguistics and Sociology of Language. 43–62. St.P.: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta.] (In Russ.)
- Хауген Э. Диалект, язык, нация // Социолингвистика и социология языка. / под ред. Н.Б. Вахтина. СПБ: Издательство Европейского университета, 2012. C. 97–114. [Haugen, Einar. Dialect, language, nation. In Nikolai B. Vakhtin (ed.), Sociolinguistics and Sociology of Language. 97–114. St.P.: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta.] (In Russ.)
- Хобсбаум Э. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность // Логос. 2005. №4(49). C. 49–59. [Hobsbawm, Eric. 2005. Are All Tongues Equal? Language, culture, and national identity. Logos 4(49): 49–59.] (In Russ.)
- Bukowski Z. 2016. Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka kaszubskiego. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania. N9. 89–108. [Bukowski, Zenon. 2016. Legal status of regional language in Poland. The Kashubian case. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania N9. 89–108.] (In Pol.)
- Dołowy N. 2008. Kaszubi - naród, mniejszość, grupa posjugująca językiem regionalnym. Przegląd humanistyczny. N6. 73–94. [Dołowy, Nocole. 2008. Kashubians. People, minority, regional linguistic community. Przegląd humanistyczny N6: 73-94.] (In Pol.)
- Dołowy-Rybińska N. 2010. Odwracanie Zmiany Językowej Na Kaszubach. Studia Socjologiczne. N3 (198). 47–76. [Dołowy-Rybińska, Nocole. 2010. The reversing of languge shift in Kashubia. Studia Socjologiczne N3(198): 47–76.] (In Pol.)
- Fischer A. 1929. Zarys etnograficzny województwa pomorskiego. Toruń: Instytut Bałtycki. [Fischer, Adam. 1929. An ethnographic study of Pomeranian Voivodeship. Toruń: Instytut Bałtycki.] (In Pol.)
- Kamocki J. 1992. Zarys grup etnograficznych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Historia. N3. 103–132. [Kamocki, Jacek. 1992. An overview of ethnographic groups in Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Historia N3: 103–132.] (In Pol.)
- Latoszek M. 1996. Pomorze: zagadnienia etniczno-regionalne. Gdańsk: Gdańskie Tow. Nauk. [Latoszek, Marek. 1996. Pomerania: ethnoregional question. Gdańsk: Gdańskie Tow. Nauk.] (In Pol.)
- Makurat H. 2007. Sytuacja języka kaszubskiego z punktu widzenia hierarchiczności języków i polityk językowych na płaszczyźnie diachronicznej i synchronicznej. Biuletyn Rady języka kaszubskiego. 104–113. [Makurat, Hanna. 2007. The situation of Kashubian language and the language hierarchies. Biuletyn Rady języka kaszubskiego 1: 104–113.] (In Pol.)
- Mastalerz-Krystjańczuk M. 2019. Ostatni Mohikanie Pomorza: ludność rodzima znad jezior Łebsko I Gardno w publicystyce polskiej lat 1945–1989. Gdańsk: Instytut Kaszubski. [Mastalerz-Krystjańczuk, Małgorzata. 2019. The last Mohicans of Pomerania. Gdańsk: Instytut Kaszubski.] (In Pol.)
- Mazurek M. Język. 2010. Przestrzeń. Pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej. Gdańsk: Instytut Kaszubski. [Mazurek, Monika. 2010. Language. Space. Origin. The analysis of Kashubian identity. Gdańsk: Instytut Kaszubski.] (In Pol.)
- Mordawski J. 2018. Geografia Kaszub. Gdańsk: ZKP. [Mordawski, Jan. 2018. The geography of Kashubia. Gdańsk: ZKP.] (In Pol.)
- Mordawski J. 2005 Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku. Gdańsk: ZKP. [Mordawski, Jan. 2005. The statistics of Kashubian population. Gdańsk: ZKP.] (In Pol.)
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mnieszkań 2011. Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Warszawa: Główny urząd statystyczny, 2015. [People census 2011. Warszawa: Główny urząd statystyczny.] (In Pol.)
- O’Rourke, Bernadette, Pujolar, Joan. 2014. New speakers of minority language: the challenging opportunity — Foreword. International Journal of the Sociology of Language 231. 1–22.
- Popowska-Taborska H. 1980. Kaszubszczyzna. Zarys dziejów. Warszawa: PWN. [Popowska-Taborska, Hanna. 1980. The history of Kashubian language. Warszawa: PWN.] (In Pol.)
- Silverstein, Michael. 1979. Language Structure and Linguistic Ideology. In Michael Silverstein (ed.) The Elements: a Paresession on Linguistic Units and Levels. Chicago: Chicago Linguistic Society.
- Spolsky, Bernard. 2004. Language policy. Key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sychta B. 1967–1976. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Volume 1–7. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. [Sychta, Bernard. 1967–1976. The dictionary of Kashubian dialects. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.] (In Pol.)
- Synak B. 1998. Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiana: Studium socjologiczne. Gdańsk: WUG. [Synak, Brunon. 1998. Kashubian identity. Gdańsk: WUG.] (In Pol.)
- Szultka Z. 1992. Studia nad językiem I rodowodem Kaszubów. Gdańsk: Muzeum Piśmiennictwa. [Szultka, Zygmunt. 1992. The study on Kashubian language and origin. Gdańsk: Muzeum Piśmiennictwa.] (In Pol.)
- Treder J. 1981. Gramatyka kaszubska: zaryz popularny. Gdańsk: ZKP. [Treder, Jerzy. 1981. Kashubian grammar. Gdańsk: ZKP.] (In Pol.)
- Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. „O mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20050170141/U/D20050141Lj.pdf) (accessed 30 March 2022)
- Zieniukowa J. 2009. Zmiany w statusie języka kaszubskiego od połowy XX wieku do początku XXI wieku Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury. N21. 259–269. [Zieniukowa, Jadwiga. 2009. The changes in Kashubian language status. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury 21: 259–269.] (In Pol.)
Supplementary files